О лекции в Варшаве
 diak_kuraev — 22.11.2023
diak_kuraev — 22.11.2023
Известный российский богослов, блогер и диссидент Андрей Кураев выступил в Варшаве с открытой лекцией об истории Церкви как катастрофе. Его выступление в конференц-зале факультета Artes Liberales Варшавского университета с последовавшими за ним дебатами растянулась почти на три часа. Сам Кураев попросил воспринимать свою лекцию как провокацию.
В самом начале выступления Андрей Кураев признался, что лекция, с которой он выступит, «опоздала на 25 лет», потому что наиболее уместна она была бы накануне миллениума – на границе веков. Тогда это стало бы «подведением итогов истории христианства за эти тысячелетия».
Сколько душ спасла церковь за 2000 лет?
«К сожалению, у нас нет самой главной церковной статистики. Сколько душ Церковь спасла за эти две тысячи лет?.. Поэтому нам приходится отчитываться о чем-то намного менее важном. Говорить, что Церковь подарила алфавит и письменность такому-то народу, вдохновила таких-то художников, воспитала таких-то замечательных писателей и так далее. Но это нечто вторичное», – сетовал Андрей Кураев.
В выступлении богослов попытался проследить, о чем мечтала христианская Церковь с самого своего основания, а вернее – о чем видела сны («Что тебе снится, крейсер «Аврора» – это очень важно. Скажи мне, что тебе снится, и я скажу, кто ты»).
«Каноны – это мечта Церкви о себе самой. Они никогда не исполнялись, но это мечта церкви. Икона – это мечта Бога о человеке. Житие святого – мечта автора этого жития о его герое», – объяснял Кураев.
Ни одно из мечтаний, из этих «снов Церкви», по мысли Кураева, так и не сбылось. Не осуществилась мечта первых христиан о бессмертии («…и вдруг, после этой общей пасхальной убежденности, мы, поколение победителей смерти, начинаем умирать»). Не сбылась и мечта о скором возвращении Христа, Который должен прийти и «всех забрать с Собой».
«И это не сбылось. Пришлось получать постоянную прописку. А казалось, мы здесь ненадолго… А нет, мы здесь неслучайно, то есть не просто на минутку зашли и скоро убежим, а надо обживаться. А значит: с волками жить – по-волчьи выть», – отмечает Андрей Кураев.
Не был также воплощен в жизнь сон о «мистическом анархизме» – мечта христиан о равенстве всех перед Богом и отсутствии всяческих «профессиональных посредников».
«Вот эта мечта о том, что возможен такой мистический онлайн с Богом, мистический анархизм, равный доступ для всех – это довольно быстро ушло в прошлое», – говорит Кураев.
Раз всего этого не произошло, мир Церкви возвращается в мир людей со своими обычными человеческими законами – социологии, политики и так далее. Вместо того, чтобы «не заботиться о завтрашнем дне», Церковь начинает заниматься большой геополитикой. А потом появляется церковное право.
Очень скоро оказалось, замечает Кураев, что даже «виртуоз религиозности», профессионал религиозности может оказаться человеком абсолютно бесталанным с точки зрения совести и этики.
«Человек может быть религиозным, очень впечатлительным, отзывчивым и при этом – этически тупым. Просто вот без эмпатии, без чувства добра и зла. Это то, что мы видим даже сегодня в жизни России, когда вроде порядочные церковные люди, святые подвижники, отшельники, старцы не могут отличить элементарной агрессии от защиты», – говорит Андрей Кураев.
Во время лекции богослов подкреплял свои мысли цитатами из поэзии Марины Цветаевой и Андрея Вознесенского, цитировал героев «Матрицы» и «Снежной королевы». Погружал слушателей в смыслы и этимологию слов.
В итоге он пришел к выводу, что Церковь напоминает сейчас остывающий вулкан Эйяфьядлайёкюдль в Исландии (последнее извержение произошло в 2010 году). Его раскаленные, горящие камни взлетали в стратосферу, падали и остывали – «и сейчас валяются где-то на дне океана или на берегу».
«По словам Омара Хайяма, «эти камни в пыли под ногами у нас были прежде зрачками пленительных глаз»… И вот Церковь похожа на это жерло потухшего вулкана, который еще дымится иногда, а порой в нем и гейзер какой-то просыпается. Туристы могут там чайничек поставить и кофе сварить к своему удовольствию или сделать фотосъемку, но не более того», – провел параллель Андрей Кураев.
«Вот в этом смысле я и говорю, что церковь стала катастрофой, вернее – история Церкви. То есть то, о чем мечталось поначалу, не сбылось… И в этом есть и плюсы, и минусы. Потому что это великое благо для Церкви, что она смогла пойти путем минимизации своих требований. Это позволило ей удержаться на земных орбитах и не слететь еще ниже. Но это и то, что не дало ей взлететь выше», – подвел итог Андрей Кураев.
В конце богослов отметил, что не ставит «окончательной оценки», и что его задачей было просто «обозначить проблемное поле». Во время дискуссии после лекции Кураев подчеркнул, что его «размышления – это не выводы, а провокация» («Думайте, ищите…»).
Участники дебатов, среди которых профессора Варшавского университета Михал Яноха, Ежи Аксер, Томаш Терликовски, Томаш Гербих, а также присутствующие на встрече слушатели, высказывали свое мнение об услышанном и задавали лектору немало вопросов (дискуссия длилась около двух часов). Точки зрения – от восхищения до неприятия. Но абсолютно все выказывали благодарность лектору за оригинальность и «интересные мысли».
Мы задали опальному протодиакону вопрос о нашем, беларусском, сне – о Беларуси без Лукашенко. Если точнее, спросили, что станет с Беларусской православной церковью, когда не будет Лукашенко. По мнению Кураева, все будет зависеть от того, кто станет в ее главе.
«Отличие религиозной ситуации в Беларуси от российской в том, что в Беларуси есть живая конкуренция конфессий. Есть альтернатива в виде Католической церкви и есть идея возрождения Беларусской православной автокефальной церкви.
Поэтому вопрос в том, сможет ли эту идею автокефалии возглавить кто-то из нынешних или грядущих лидеров Беларусской церкви, которая под Московским патриархатом, или же это будут совсем другие люди, а может быть – Константинопольский патриархат. Вот от этого все зависит», – ответил Андрей Кураев.
Мы попросили его также высказаться по поводу репрессий, которым подвергаются сегодня священники и верующие разных конфессий в Беларуси. По мнению Кураева, это не репрессии против именно религиозных деятелей, а попытка заглушить вообще все «несогласные голоса».
«Это просто желание, чтобы любые несогласные голоса не использовали никакие возможные трибуны – ни в интернете, ни в прессе, ни в церкви», – считает Андрей Кураев.
На его взгляд, Александру Лукашенко Церковь нужна, но нужна «в качестве послушного инструмента».
«Еще один комсомол. Комсомол для старшего возраста», – сказал Кураев.
«Что нужно будет сделать, чтобы Церковь не была комсомолом, чтобы в будущем разделить Церковь и государство?» – задаем последний вопрос.
«Для этого нужен социальный заказ. Нужно, чтобы социальные элиты понимали необходимость следования строгому принципу отделения Церкви от государства. Потому что сама Церковь отделяться от государства по собственной инициативе не будет никогда.
В православную традицию не вшит политический аскетизм. Это значит, что епископ может отказаться от мясной котлеты, но он не откажется от куска власти, если ему государство предложит что-то еще взять под контроль. Поэтому вопрос только в социальной элите и в самом государстве: видит она плюсы в этом партнерстве с Церковью или же полагает, что все-таки будет лучше для всех держать дистанцию», – ответил Андрей Кураев.
|
|
</> |

 Хирургические центры в Москве
Хирургические центры в Москве  А если бы не она, не Медведка
А если бы не она, не Медведка  Ещё раз про еду
Ещё раз про еду 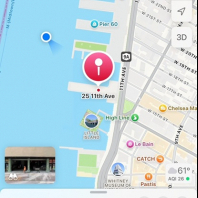 Кораблик.
Кораблик.  Как быстро всё меняется...
Как быстро всё меняется...  Светает
Светает  •20120•
•20120•  В Вильнюсе открылась выставка акварели Наполеона Орды.
В Вильнюсе открылась выставка акварели Наполеона Орды.  В Египте открылся крупнейший в мире археологический музей
В Египте открылся крупнейший в мире археологический музей 



