НЕЧИТАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ
 natabelu — 15.03.2013
Теги: Михалков
Вослед, так сказать, юбилейным торжествам. Несмотря на
страшные тиражи, о которых давеча говорил Владимир Владимирович
Путин, всё-таки произведения Сергея Михалкова люди знают
недостаточно хорошо. Например, мою любимую пьесу «Илья
Головин» из моего окружения знает только один человек, и
то исключительно потому, что я ему эту пьесу прочла вслух, на
разные голоса (не буду скрывать, что особенно мне удался образ
домработницы Луши). За «Головина» Михалков получил в 1949
Сталинскую премию (третью, кажется). В самых дурацких произведениях
Михалкова, типа "...а сало русское едят!", можно заметить
проблески таланта; здесь же — ни одного. Поэтому пьеса меня в
своё время буквально перепахала. Она совершенна в своей радостной
бездарности. Готовность автора немедленно побежать туда, откуда
дует ветер, и тоже как следует подуть в том же направлении, даже
для советского времени какая-то рьяноватая. Пьеса о композиторе
написана в разгар очередного разгрома формалистов и прочих
космополитов. Убожеством языка она иногда похожа на
стенограммы того периода; но стенограммы велись всё-таки вынужденно
и без претензий на художественность. В известном смысле пьесу «Илья
Головин» можно считать человеческим документом. Не представляя
собой ценности литературной, она добавляет парочку новых красок к
портрету юбиляра. Чтобы осчастливить ленивцев, которые пьесу не
осилят, я её не без садистского удовольствия перескажу.
natabelu — 15.03.2013
Теги: Михалков
Вослед, так сказать, юбилейным торжествам. Несмотря на
страшные тиражи, о которых давеча говорил Владимир Владимирович
Путин, всё-таки произведения Сергея Михалкова люди знают
недостаточно хорошо. Например, мою любимую пьесу «Илья
Головин» из моего окружения знает только один человек, и
то исключительно потому, что я ему эту пьесу прочла вслух, на
разные голоса (не буду скрывать, что особенно мне удался образ
домработницы Луши). За «Головина» Михалков получил в 1949
Сталинскую премию (третью, кажется). В самых дурацких произведениях
Михалкова, типа "...а сало русское едят!", можно заметить
проблески таланта; здесь же — ни одного. Поэтому пьеса меня в
своё время буквально перепахала. Она совершенна в своей радостной
бездарности. Готовность автора немедленно побежать туда, откуда
дует ветер, и тоже как следует подуть в том же направлении, даже
для советского времени какая-то рьяноватая. Пьеса о композиторе
написана в разгар очередного разгрома формалистов и прочих
космополитов. Убожеством языка она иногда похожа на
стенограммы того периода; но стенограммы велись всё-таки вынужденно
и без претензий на художественность. В известном смысле пьесу «Илья
Головин» можно считать человеческим документом. Не представляя
собой ценности литературной, она добавляет парочку новых красок к
портрету юбиляра. Чтобы осчастливить ленивцев, которые пьесу не
осилят, я её не без садистского удовольствия перескажу.Итак, композиторская дача. Илья Головин, композитор, при нём жена Алевтина, дочь-певица Лиза, сын-художник Фёдор, брат-настройщик Степан, друг-критик Залишаев, прочие подтянутся по ходу дела. Умному читателю сразу ясно, что критик Залишаев — нехороший человек, потому что у него противная лишайная фамилия, но для тупого читателя автор делает намёки — чтобы тупой тоже почувствовал себя умным. Во-первых, Залишаев отказывается выпивать и говорит неопределённо (это авторская ремарка):
У меня что-то последнее время того… печень пошаливает… Камни… — и брат-настройщик бухтит "про себя": Камни в печени… Камни за пазухой… Мощно намекнул! Ещё более явно обнаруживается космополитизм Залишаева, когда Головин предлагает квас. Наш русский квас. А мы сейчас будем квас пить. Настоящий домашний сухарный квас, прямо со льда. А? Вы любите квас? — и Залишаев говорит опять-таки неопределённо: Мой гомеопат не рекомендует мне пить очень холодное, но я, откровенно говоря, сегодня готов на все. То есть для него выпить квасу — это подвиг. Залишаев постоянно восторгается Четвёртой симфонией Головина, упоминая при этом Хиндемита (дело пахнет керосином), и ругает молодого композитора с привлекательной фамилией Мельников.
В это время в лагере молодого поколения — фиг догадаешься, что это лагерь молодого поколения. Фёдор-художник пишет маки, Лиза-певица и её подруга-балерина осуждают. Лиза утверждает, что Фёдор смотрит на природу неправильными глазами: Близорукими. Настоящий современный художник, а тем более молодой, должен далеко видеть и, главное, ставить перед собой цели другие. Понимаешь? Цели, цели другие. Ты любишь природу? Деревню? Пожалуйста! Вот вчера я видела — петунинские колхозницы с покоса шли. Разве нельзя написать такую картину? Идут женщины, загорелые, усталые, но веселые. Рядом с молоденькой девушкой, может быть комсомолией, — пожилая женщина, мать… Тут тебе и пейзаж — раздолье русское, и лица… Каждое лицо характер, портрет. Как красивы на фоне неба и луга цветные пятна: платки, юбки, легкие, поднятые вверх грабли! А все вместе звучит, как песня. Да, да! Как широкая песня… Понимаешь, о чем я говорю?
Однако Фёдора до поры до времени не привлекают поднятые вверх грабли и петунинские колхозницы, он снова зацикливается на маках, — наркоконтроля на него нет, честное слово.
Тут приходит начальник строительства Бажов и притаскивает газету «Правда». В «Правде» — статья о Головине. Статья без подписи. Называется «Формалистические выкрутасы в музыке» (о, этот мерзкий стиль; выкрутасы, сумбур вместо музыки, расстрелять как бешеных собак). У начальника строительства как будто гора с плеч упала. Он делится с дочерью композитора, певицей Лизой: Прочел я эту статью и понял, что не по-большевистски относился к творчеству вашего отца. (...) Я, видите ли, относился к тому, что он писал, как к чему-то такому, что стоит выше нас, что нам надо принимать его творчество таким, каково оно есть. Илья Петрович не раз играл при мне свои новые произведения, но я как-то воздерживался от высказывания своих непосредственных впечатлений, думал, что не нам его судить. А музыку эту я не понимал, вернее она мне не нравилась!
Как честнный человек, начальник строительства пришёл подтвердить, что говно эта ваша музыка, и поддержать тем самым друга-композитора. Залишаев же, заявлявший: Головина знает весь цивилизованный мир! (при этом он перелистывал журнал «Америка», что характерно), увидевши статью в «Правде», немедленно дал дёру. Залишаев совершенно справедливо рассудил, что раз статья без подписи, это — сверху, это — сверху! Композитор Головин раздосадован отсутствием подписи под статьёй, и его мудрый брат-настройщик объясняет: подписи нет потому, что под статьёй «Формалистические выкрутасы в музыке» мог бы подписаться весь народ. Дай бог всем такого брата-настройщика.
Композитор, естественно, раздавлен. Он начинает слышать голоса: Головин подходит к радиоприемнику, включает его. Обрывки передач на всех языках сменяют друг друга. Внезапно громкий и неприятный мужской голос диктора по-русски, с едва уловимым иностранным акцентом, заполняет всю комнату. Голос диктора. «Это значительное произведение выходит за узкие рамки национальной музыки и звучит как подлинный шедевр современной музыкальной культуры, являясь ярким доказательством большого таланта Ильи Головина… К сожалению, последняя, Четвертая симфония этого выдающегося композитора была встречена в штыки официальными советскими коммунистическими кругами, обвинившими автора в формализме и так называемом «антинародном» характере его музыки. Сейчас вы услышите Четвертую симфонию Ильи Головина в исполнении одного из лучших симфонических оркестров Соединенных Штатов Америки, под управлением дирижера Гарри Лайтон — известного знатока славянской музыки…»
Домработница Луша наивно радуется: Обратно вас хвалят, слава богу, — чем заставляет Головина крепко задуматься, на ту ли мельницу он льёт воду своей музыки и вообще кому это выгодно. О Луше надо сказать отдельно. Она источник народных мудростей и метких наблюдений. Например: У каждой осы свой аппетит, вот она и летит…, Собралися тучки в одну кучку, вот и ненастье!
Начальник строительства Бажов продолжает преследовать Головина. Они на днях проводили партийную конференцию в районе, и в президиум поступили две записки о Головине: народ интересуется, над чем работает композитор. Любознательный у нас народ в районе! — восхищается начальник строительства, — Ой, дотошный народ! Все-то ему нужно знать, кто чем дышит, кто что пишет… Бедняга композитор, готовясь описаться от ужаса: Кто же их писал, как вы думаете? Бажов: Не знаю. Получили в президиум, прямо из зала. Мог такую записку и кто-нибудь из учителей прислать, мог ее и прокурор написать, а может быть председатель колхоза… Головин, таки описавшись от ужаса: А собственно почему прокурор? Бажов радостно рассказывает, что прокурор у них ценитель музыки, сам играет.
Поскольку ни начальник строительства, ни брат-настройщик, ни далёкий интересующийся прокурор так и не пробудили в Головине стремления немедленно написать правильную музыку, в пьесу призывается тяжёлая артиллерия. Точнее, танки. Во время войны на даче Головина был штаб, а теперь те же танкисты попросились на постой, у них тут ученья. Генерал Рослый рассказывает потрясающую историю: в военную годину солдаты нашли в его доме тетрадку с какими-то нотками, оказалось — вроде песня, солдаты сочинили слова и всю войну пели так называемую "головинскую". И очень их от этой песни пёрло. Но дальше было хуже. Слово генералу Рослому:
Было это дело, как я уже сказал, во время войны, а вот как сейчас помню, этой весной лежу я в госпитале: у меня, извините, аппендикс вырезали… Лежу я в своей палате и слушаю от нечего делать радио. Надо вам признаться, что, кроме этой замечательной песни, другой вашей музыки я тогда не знал. Так вот, когда по радио объявили музыку нашего Головина, я весь превратился в слух и внимание. (...) Вы уж меня извините, ничего я не понял в вашей музыке. Намучился я, пока до конца дослушал. И вот об этом и хотел я вам в письме написать. Хотел у вас спросить, для кого и для чего вы ее сочинили? А потом в газете статью прочел. Спасибо партии — объяснила!
Композитор держится из последних сил: Я очень сожалею, что доставил вам такие страдания.
Но Рослый не унимается: Что страдания? Горе! я всю ночь спать не мог. Лежу и думаю: а может, думаю, отстал ты, генерал, от современной музыкальной культуры? В консерваторию ты ходил редко, новой музыки ты слушал мало, некультурный ты человек. Ничего ты в серьезной музыке не понимаешь. Однако рефлексия была недолгой: А я вот подумал, подумал и сам с собой не согласился. Как же так, думаю? Глинку я понимаю. Шестую симфонию Чайковского. Девятую Бетховена сколько раз слушал. Понимаю? Понимаю! Песни русские люблю. Сам пою. Волнуют они меня? Волнуют! А почему? Да потому, что живет в них душа народа, потому что в настоящей музыке все поет, звучат высокие чувства человека, поет его мысль о прекрасном в жизни. Поет сама жизнь. Стало быть, генерал, ты правильно сделал, что Четвертую Головина не понял. И не мог ты ее понять. Не для тебя ее писали. Заодно Рослый объясняет композитору, что музыку нужно писать русскую и советскую, а "общечеловеческое" придумали эти, как их... безродные...
Глинку он понимает, хе! Девятую Бетховена, Шестую Чайковского. Есть основания полагать, что под Головиным Михалков имел в виду Шостаковича (хотя не только его, конечно; это собирательный образ заблудшей музыкальной овцы). На том же идеологическом материале в это же время пропесоченный Шостакович писал издевательский «Антиформалистический раёк», где почти впрямую цитировал Жданова и Сталина. Он отличным образом отразил все эти "Глинку я понимаю" и любовь к народной песне: Сюиты, сюитки, сонатки мои, развеселые квартетики, кантатки мои. Эх, Глинка, калинка, малинка моя, раз симфония, поэмка, сюитка моя. Эх, Глинка, Дзержинка, Тишинка моя, расхреновая поэмка, сюитка моя...
Добили композитора Головина солдатиком, который спел ему "головинскую" (Травушка в поле тропою примята, холм под ракитой, в тени. Это простая могила солдата, шапку, товарищ, сними! — и так далее), после чего потрясённый Головин удалился возрождаться к новой жизни. Было от чего потрястись: брат-настройщик не понял его музыки, начальник строительства не понял, прокурор-ценитель не понял, а тут ещё и военный (красивый, здоровенный), лёжучи в больничке с аппендицитом и включивши радио, тоже буквально ни хрена не понял. Дело швах. А мелодийка, когда-то накарябанная в нотной тетрадке, стала, оказывается, шлягером! Куды бечь?
Головин ударился оземь, возродился к новой жизни и сам себя не узнаёт, откровенничая с братом: Вот ведь скоро год, как произошло все это… Все время, как ты знаешь, существовал я на своей даче. Безвыездно. Как медведь в берлоге. Один… Рояль в чехле… Понимаешь? Трудно было… Тяжело. Много книг за это время прочел… Музыкантов, классиков наших перечитывал… Письма… Дневники… Ленина читал… Сталина… Читал и думал. О друзьях… О врагах думал, о народе нашем… О себе… Отца вспомнил, мать, жену, покойницу Веру… Детство наше с тобой. Консерваторию… Хотел, понимаешь, до самых корней дойти, все понять, до всего добраться — что, почему, откуда? Столько я, Степа, передумал… Проснусь, бывало, ночью, с бока на бок перекатываюсь, с подушкой разговариваю. «Вот, говорят нам, дерзай, дерзай!» А разве я не дерзал? Разве я не сочинил свою Четвертую симфонию? Сочинил! Я еще сам в ней не успел как следует разобраться, а вокруг нее шум: «Новое слово в искусстве!», «Новаторство!», «Гениально!» В консерватории — Головин. По радио — Головин! Журнал откроешь — опять Головин. Головин рад… Головин доволен. Слаб человек. А потом вдруг газета «Правда», и вся правда про Головина в ней и написана! Черным по белому написана! Что же это получается? Я за роялем сидел, думал — старые законы рушу, Америку в искусстве открываю, а выходит, этой самой Америке только того и надо. Вот ведь, Степа, что получилось! Бедствие! Долежишь эдак, с такими думами, до зари, выглянешь в окно, а солнце опять с востока восходит. Не как-нибудь по-новому, с севера там или, скажем, с юга, а опять с востока! Понимаешь, Степа? Не оригинально восходит, но…
В общем, солнце всходит и заходит — но! — цимес не в том. Обратите внимание, как ловко Головин перевёл стрелки на проклятых подпевал, которые объявили его, Головина, гениальным, когда он об этом вовсе не просил. Тенденция Михалковым отражена верно: когда отстали от композиторов, взялись за музыкальных критиков и музыковедов. Тут самое время выйти на сцену Залишаеву. Залишаев пытается пробиться к Мельникову, молодому композитору, которого он критиковал, и который теперь один из наших руководителей. В Мельникове безусловно угадывается Тихон Хренников, сочинитель очаровательных мелодий, композиторов начальник и убеждённый погромщик, который на музыковедах отрывался с какой-то иезуитской дотошностью. Вот Хренников дожимает Бэлзу (стенограмма):
Хренников: Вы говорите об отдельных ошибках. Надо говорить о порочной деятельности, которую вы проводили. А вы называете свою порочную деятельность отдельными ошибками. Слишком мягко вы говорите.
Бэлза: Я считаю, что из цепи ошибок складывается порочная деятельность. (...) Я поддерживал издание формалистических произведений в Музгизе, я пропагандировал эти произведения в своих многочисленных рецензиях и т.д. — в этом и заключается отчасти тот вред, который я принёс.
Хренников: Вашу деятельность называю порочной не только я, но и вся музыкальная общественность. Это во-первых. Затем, вы уже кончаете своё выступление, а не даёте политической характеристики своей вреднейшей работе на музыкальном фронте.
Бэлза: Я осознал порочность своей деятельности.
А вот как в пьесе Михалкова Мельников размазывает Залишаева (литературный Залишаев, в отличие от реального Бэлзы, имеет наглость дёргаться и сопротивляться):
Мельников. Не обо мне сейчас речь. А что касается вас, то вы никогда не верили в наше искусство! Вам по душе было нечто иное. И статьи свои вы писали хотя и по-русски, но с тем же акцентом, который звучит иногда до радио из-за океана.
Залишаев. Это бездоказательно! Нет, нет! Так нельзя! Вы порочите советскую критику!
Мельников. В данном случае я говорю только о вас и о подобных вам.
Залишаев. Я люблю и всегда любил подлинное национальное искусство! У меня есть свидетели.
Мельников. Нет! Вы его не любили. Ведь не ради любви к нему вы поднимали свистопляску вокруг имени Головина, который сбился с пути, по которому шел, с единственного пути, который ведет к сердцу народ! Вы подхватили его под руки и начали подталкивать туда, где бы ему рукоплескали наши идейные враги. Вы хотели его отнять у нас, его — Головина, который со всеми своими заблуждениями — наш, а не ваш Головин! Вы хотели его отнять у нас, но мы его вам не отдадим! Не отдадим, Залишаев! Да он и сам за вами не пойдет, потому что он советский человек, советский художник, потому что он поймет, — да, да, поймет, если уже не понял, что зерно, для того чтобы стать колосом, должно расти в земле, а не в зубном порошке. Вы меня извините, я сказал вам все, что я о вас думаю.
Закачивается всё наилучшим образом: Головин показывает Мельникову свой новый фортепианный концерт; концерт, видимо, удовлетворяет всем требованиям, и истинно народного композитора Головина посылают куда? правильно — за границу. Бороться за мир. Борьба за мир, кстати, была и почётной обязанностью Шостаковича. Вернувшийся из загранки Головин светится и звенит, не в силах сдержать пафоса, и в самой напыщенной манере общается с семейством и друзьями: Да, они угрожают всему миру и главным образом нам, нашим детям и внукам… Но, думается мне, нет, я уверен в том, что мир победит войну. От Советского Союза на эту конференцию в защиту мира летело несколько человек, среди них: один ученый-физик, два писателя, два музыканта — это мы с Мельниковым, учительница из Орла и митрополит.
Домработница Луша спрашивает как будто из сегодняшнего дня: Господи! И владыко летел?
Головин: Да, да… И владыко летел… Кроме нас, со всех концов света съехались представители всех народов, несколько тысяч человек, говорящие на разных языках…
Луша: И как же это они промеж себя-то?
Головин: Представьте себе, они говорили на разных языках и все же отлично понимали друг друга, потому что все они говорили о мире! Мне тоже предоставили слово, и я тоже сказал его — свое слово в защиту мира, против войны! А потом я сел к роялю и сыграл им свое новое сочинение, свою «Песню о Родине». И я сам пел ее… (Тут как будто Путин просвистел весёлым стерхом.)
Головина: Илюша, теперь у нас все поют твою песню.
Головин: А когда я кончил играть и посмотрел в зал, я увидел людей — простых людей, для которых я играл, — людей, которые вроде нас с вами хотят жить на земле, трудиться, воспитывать детей, писать книги, обрабатывать землю, сочинять и слушать музыку. Я стоял перед ними на сцене и, вглядываясь в их честные, смелые лица, думал о том, что таких людей на земле больше и они сильнее любой атомной бомбы!
Начальник строительства Бажов, с улыбочкой: Которая, кстати, есть теперь и у нас.
Головин: Вот именно. Которая, очень кстати, есть и у нас. А услышать то, что скажут эти люди, собралось на последнем митинге более пятисот тысяч человек. Полмиллиона! И наш голос звучал на весь мир и заглушал весь тот вой, который поднимали против нас все эти господа! Да, да… Я сам, своими глазами видел, как они нас боятся. Они боятся того спокойствия, той уверенности, с которой мы говорим. Они боятся правды! А если бы вы только слышали, что произошло на стадионе, когда было названо имя товарища Сталина! Никогда в своей жизни мне не забыть того, что я пережил в эти минуты, когда я вместе с полумиллионом единомышленников стоял и рукоплескал нашему Иосифу Виссарионовичу. Артем Иванович, вы помните нашу беседу тогда, семнадцатого декабря прошлого года, в день моего рождения, здесь, вот на этом самом месте?
И, собственно, финал!
Звучит духовой оркестр. Доносятся слова песни. Ее поет народ.
Хор.
Люди советские насмерть стояли,
Жизни своей не щадя.
В битвах, как знамя, они поднимали
Имя родного вождя.
Нивы шумят урожаем богатым,
Птицы поют в вышине.
Вечная слава героям-солдатам,
Павшим в великой войне!
Немая сцена. Немая сцена — так у автора, да.
С чего бы немая сцена, интересно? Не "Ревизор" же.
Замечательная головинская речь (Никогда в своей жизни мне
не забыть того, что я пережил в эти минуты, когда я вместе с
полумиллионом единомышленников стоял и рукоплескал нашему Иосифу
Виссарионовичу), написанная на скотском
серьёзе, гениально перекликается с пародиями Шостаковича.
Шостакович отрывался на советском стиле в письмах Гликману, точно
передавая задыхающуюся, восторженную интонацию:
«Очень у меня отсталая левая рука. Я завидую В.Я. Шебалину,
который совсем потерял правую руку, но вытренировал левую: он пишет
левой рукой совершенно свободно. Более того: он левой рукой,
откликаясь на исторические указания о том, что искусство должно
быть ближе к жизни, ближе к народу, написал левой рукой оперу о
наших современниках, победно идущих под руководством Партии к
сияющим вершинам нашего будущего, к коммунизму».
Не говоря уж о совершенно крышесносном, моём любимом: «Дорогой
Исаак Давыдович! Приехал я в Одессу в день всенародного праздника
40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты,
конечно, сам понимаешь, что усидеть дома в такой день нельзя.
Несмотря на пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу.
Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также т.т. А.И.
Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова, Н.Г.
Игнатова, А.П. Кириленко, Ф.Р. Козлова, О.В. Куусинена, А.И.
Микояна, Н.А. Мухитдинова, М.А. Суслова, Е.А. Фурцевой, Н.С.
Хрущева, Н.М. Шверника, А.А. Аристова, П.А. Поспелова, Я.Э.
Калнберзина, А.И. Кириченко, А.Н. Косыгина, К.Т. Мазурова, В.П.
Мжаванадзе, М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко. Всюду флаги, призывы,
транспаранты. Кругом радостные, сияющие русские, украинские,
еврейские лица. То тут, то там слышатся приветственные возгласы в
честь великого знамени Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также в
честь т.т. А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.Е.
Ворошилова, Н.Г. Игнатова, А.П. Кириленко, Ф.Р. Козлова, О.В.
Куусинена, А.И. Микояна, Н.А. Мухитдинова, М.А. Суслова, Е.А.
Фурцевой, Н.С. Хрущева, Н.М. Шверника, А.А. Аристова, П.А.
Поспелова, Я.Э. Калнберзина, А.И. Кириченко, А.Н. Косыгина, К.Т.
Мазурова, В.П. Мжаванадзе, М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко. Всюду
слышна русская, украинская речь. Порой слышится зарубежная речь
представителей прогрессивного человечества, приехавших в Одессу
поздравить одесситов с великим праздником. Погулял я и, не в силах
сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и решил описать, как
мог, всенародный праздник в Одессе».
Возвращаясь к пьесе Михалкова. Это произведение играли аж во МХАТе.
Музыку к спектаклю написал Хачатурян, которому тоже, между
прочим, досталось в своё время за "ошибки"; причём он в них
упорствовал, так как "формалистические выкрутасы" Головина ему
удались лучше, чем выкрутасы подлинно народные. Кроме того, в
первом варианте пьесы Мельников-Хренников был, кажется, бледноват,
о чём свидетельствует замечательная докладная записка. Этот
документ выглядит постскриптумом к пьесе; его бы даже
следовало вплести в антихудожественную ткань сочинения
Михалкова для полного понимания советской литературы.
Докладная записка М.А. Суслову за подписями работников Агитпропа ЦК
В.С. Кружкова и П.А. Тарасова о постановке пьесы С.В.
Михалкова «Илья Головин»:
Во МХАТе им. Горького 10 ноября с.г. состоялась премьера
спектакля “Илья Головин” по пьесе С. Михалкова.
Спектакль посвящен нужной теме идейного воспитания советской
художественной интеллигенции. Автору и театру удалось убедительно
показать процесс перестройки талантливого советского композитора
Головина, сумевшего под влиянием большевистской критики порвать с
формалистским направлением в музыке.
Спектакль остро разоблачает антинародность формализма,
вредоносность космополитической критики, показывает плодотворное
влияние партийных решений по идеологическим вопросам на развитие
советского искусства. Особенно удались в спектакле сцены, где
подчеркнута глубокая кровная заинтересованность народа в судьбах
искусства, выражены требования народа к искусству.
Спектакль “Илья Головин” имеет и ряд существенных
недостатков. Драматургу не удалось достаточно глубоко показать
силу, прогрессивную роль и значение для судеб нашей музыкальной
культуры передового, реалистического направления советской музыки.
Это направление представлено в пьесе образом молодого композитора
Мельникова. Роль Мельникова написана и сыграна бледно и
невыразительно. Вследствие этого прогрессивное реалистическое
направление в советской музыке не раскрыто в борьбе с реакционным,
формалистическим направлением. Автор сузил тему пьесы, ограничив ее
в основном показом перевоспитания композитора-формалиста, отчего
идейное звучание пьесы и спектакля оказалось сниженным.
Наименее удачными являются в пьесе и спектакле образы
молодежи. Сын Головина — молодой художник, дочь — певица, ее
подруга — балерина не представляют прогрессивного направления в
нашем искусстве. Они выглядят идейно безликими, людьми далекими от
идеологической борьбы, ведущейся на фронте искусства. Нетипичен и
нехарактерен для советской художественной молодежи образ Федора,
стремящегося уйти в область «чистого искусства», рисующего только
деревья, маки и т.п.
Значительное место в спектакле занимает музыка, средствами
которой раскрывается процесс перестройки главного
героя-композитора. Музыка к спектаклю, написанная А. Хачатуряном,
остра и выразительна в первых сценах, где речь идет о
формалистических заблуждениях Головина. Очень удачно написана
песня, свидетельствующая о животворности народного, мелодического
начала для творчества наших композиторов. Музыка заключительных
сцен, которая должна была показать творческую перестройку Головина,
удалась в меньшей степени — ей не хватает широты и мелодичности,
она недостаточно раскрывает новый реалистический характер музыки
Головина.
Несмотря на отмеченные недостатки, спектакль “Илья Головин”
во МХАТе был хорошо принят зрителями. Его успеху способствует
хорошая игра исполнителей главных ролей В. Топоркова (Илья
Головин), И. Судакова (генерал Рослый), А. Степановой (жена
Головина), А. Зуевой (домработница Луша), Л. Волкова (музыкальный
критик Залишаев).
Спектакль в целом следовало бы одобрить, предложив драматургу
и театру доработать отдельные сцены, а также музыку последнего
акта.
Следует отметить, что недостатки, имеющиеся в пьесе С.
Михалкова, в известной мере снижающие значение спектакля МХАТа,
могли быть легко устранены, если бы эта пьеса была подвергнута
предварительному обсуждению.
В данном случае Союз советских писателей повторил имевшие
место в прошлом ошибки, не обсудил пьесу, предназначенную к
постановке во МХАТ ко дню Октябрьской годовщины, допустил
опубликование пьесы в журнале «Новый мир», несмотря на то, что
пьесу еще нельзя признать окончательно доработанной.
Считали бы возможным вызвать в агитпроп руководство театра и
драматурга для беседы по поводу дальнейшей работы над спектаклем, а
также указать президиуму ССП на необходимость обсуждения всех
значительных пьес, намеченных к постановке в крупнейших театрах
страны.
Просим Ваших указаний.
Шостакович, Михалков с Андроном, Хренников:

|
|
</> |

 Готовим автомобиль к снегу и морозам: 10 простых шагов для уверенной езды
Готовим автомобиль к снегу и морозам: 10 простых шагов для уверенной езды  Знакомые всё лица
Знакомые всё лица  Причина СВО - провал российских рыночных реформ
Причина СВО - провал российских рыночных реформ  Сказки Шварца как зеркало истории СССР
Сказки Шварца как зеркало истории СССР  где-то подморозило
где-то подморозило 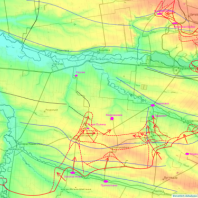 Война на Украине (30.10.24): ВСУ не способны прикрыть фронт юго-западнее
Война на Украине (30.10.24): ВСУ не способны прикрыть фронт юго-западнее  Утренний глоток поэзии
Утренний глоток поэзии  Гражданский проспект поздней осенью...
Гражданский проспект поздней осенью...  Хотел обрадовать новым полом, оказался в больнице с травмой...
Хотел обрадовать новым полом, оказался в больнице с травмой... 
















