Моя 10-ка лучших биохорроров - 1.
 moskovitza — 28.10.2024
moskovitza — 28.10.2024

Изрядно поизносившееся человечество движется на фармакопротезах к трансформации в новые, пугающие формы существования. Невидимая биовласть, ранее формовавшая людскую массу чередой психотических кризисов и волнами прекаризации, переходит к молекулярным техникам управления. То, что называлось "жизнью", становится объектом биотрекинга - человеческое тело и сознание присваиваются фармакополитикой. Ужас запредельного, не схватываемого сознанием, атакует человека не только извне, но и изнутри. Мастера кино, обеспокоенные паразитическим вторжением в человеческую субъектность, всегда пытались не просто испугать зрителя картинами кодируемой и форматируемой не-жизни, но и призвать к поиску иных, нежели становление-нелюдью, путей ускользания от тотального биоконтроля. Вот почему я решила составить свою 10-ку лучших биологических хорроров.
1. Клоун.
Фильм Тода Браунинга «Фрики», вернувшийся на экраны в начале 60-х годов после 30 лет забвения, вдохновил двух уроженцев Нью-Йорка - Виктора Драгунского и Диану Немирову на исследование маргинального мира цирковых уродцев. Советский детский писатель Драгунский, всю жизнь старавшийся не задавать себе главный вопрос: зачем родители в 1914 году увезли его из тылового Нью-Йорка в прифронтовой Гомель («Я полюбил всех в этом колхозе и решил, что проживу здесь для начала лет сорок, а там видно будет», - постиронизировал он над своей странной судьбой в одном из принесших ему известность «Денискиных рассказов»), засел за "взрослую" повесть об изуродованном взрывом цирковой пиротехники клоуне (в 1964 году «Сегодня и ежедневно» была опубликована в журнале «Москва», а спустя год вышла отдельным изданием, одновременно с русским переводом повести прогрессивного немецкого писателя Белля «Глазами клоуна»), а популярный нью-йоркский фэшн-фотограф Немирова, дочь беженцев из России, взяв свой старенький «Никон», отправилась на 42-ую улицу - знаменитую «Двойку», где в полуподвале дома 228 доживал последние дни Блошиный цирк Губерта - шоу «физически очень необычных людей». Здесь Немирова встретилась и подружилась с героями фотографий, принесших ей мировую славу - Евреем-великаном Эдди Кармелем, сыном беженца из России, известным по роли монстра в фильме «Мозг, который не мог умереть» - первой вольной экранизации «Головы профессора Доуэля», и Русским карликом Андреем Ратушевым, вывезенным в младенчестве из Порт-Артура в Калифорнию и успевшим выступить в одном номере с легендарной бородатой женщиной Джейн Барнелл, дочерью беженца из России, снявшейся во «Фриках» и получившей известность под сценическим псевдонимом «Княгиня Ольга» (в память о ней назвал свою 280-футовую гигаяхту постсоветский углеводородный набоб).
Театральный режиссер Владимир Андреев, приступая в 1970 году к телевизионной экранизации повести Драгунского, очевидно, намеревался выстроить сюжет вокруг борьбы клоуна-великана Ветрова (Владимир Этуш) и жонглера-карлика Лыбарзина (Юрий Медведев) за эксклюзивный доступ к телу (и спиртному из-под стойки) потасканной буфетчицы цирка Таи (Софья Павлова), но цирковая аффективная атмосфера внесла свои коррективы в этот замысел.



«Как только я почуял цирковой запах, мне сразу стало и жутко отчего-то и весело ни от чего», - признавался Дениска, блуждавший в мистических лабиринтах темных детских желаний. Ужас, охвативший Дениску в цирке - и охватывающий зрителей «Клоуна» — это боди-хоррор как аффект при столкновении со странным чужим существованием: с клоуном Ветровым, у которого «синее лицо в крапочку», с Амударьей, «огромной женщиной, центнера полтора, в спину которой палили из пушки полупудовыми ядрами», cо странно деформированным гимнастом Славиком (юному Константину Райкину не нужен грим), - это симптом переживания себя как другого, страх утраты границ собственного тела.



Сюзан Зонтаг писала в привычном для нее жанре политического доноса, что фронтальный взгляд фотокамеры Дианы Немировой на ужасное и девиантное есть не что иное, как пропаганда антигуманизма, ставящая знак равенства между Америкой и генетическим уродством. Драгунский идет еще дальше: предложенная им новая сумеречная оптика - это не прямой взгляд на объект, а взгляд сквозь него, онтологическое путешествие внутрь вещи. «Цирк для меня, - признается клоун Ветров, - это разнообразные грыжи и выпадения прямых кишок, расплющенные суставы и отбитые креcтцы, растяжения, вывихи, переломы и ушибы». Разорвав отношения с недостойной буфетчицей («она жила нечисто и не ждала меня, и майоры возили ее на своих машинах»), Ветров обращает свой постдеконструктивистский взгляд на прелестную юную гимнастку Ирину (жена режиссера Наталья Селезнева). Результат предсказуем: «Она ударилась головой. Об пол. Она вонзилась головой в пол. Тук. Штрабаты все-таки подтянули ее и потащили из прохода в центр манежа, и она прыгала, как китайский мячик, волочась и ударяясь головой о пол. Тук. Тук. Тук».
«Ой, как страшно! Ой, как страшно!» - потешно кликушествует жуткий клоун в финальных кадрах фильма (Этуш не забывает подпустить фирменные причитания товарища Саахова), мысленно продолжая доламывать сорвавшуюся с нитей (штрабатов) мясную марионетку с темным безразличием ребенка, не видящего разницы между собственной волей и волей предмета: - «А потом без звука – о манеж. Тук. Тук. И о ковер. Тук».
Вскоре после телевизионной премьеры фильма «Клоун», 26 июля 1971 года Диана Немирова приняла смертельную дозу барбитуратов и вскрыла вены в ванной своей квартиры в нью-йоркском кооперативе художников «Уэстбет». Меньше чем через год, 6 мая 1972 года в своей квартире в московском кооперативе артистов эстрады ушел из жизни Виктор Драгунский.
2. В одном микрорайоне.
«Еще когда он совсем маленький был, пришли они в цирк. И каждый раз, когда кончался номер, Сапожников плакал, ожидая, что праздник сейчас кончится. И только много лет спустя он осознал, что это есть мечта о коммуне - празднике каждый день, о счастье общности, когда все как один теплый дом, где каждый друг другу в помощь...» Автор этих строк Михаил Анчаров решился заглянуть в темные пределы коммунитаризма, оборачивающегося нечеловеческим ужасом инсектоидных сообществ, в мыльных операх «День за днем» (1971) и «В одном микрорайоне» (1976) .



Телевизионную повесть «День за днем» принято называть «первым советским сериалом». Разумеется, «Семья Петрайтисов» Галины Даугуветите появилась на телеэкранах намного раньше - в 1964 году (через 10 лет после оригинала - первой мыльной оперы ВВС «Семья Гроувов»), но именно «День за днем» предложил советскому зрителю модель отношений телевизионных героев, выходящую за семейные рамки (по этой схеме были в течение следующих двух-трех лет слеплены «Разные люди», «Ребята с нашего двора», «Вот такие истории» и «Наши соседи»). Как и его предшественница, шоураннер Анчаров локализовал телевизионный продукт метрополии - транслируемую с 1960 года мыльную оперу ITV «Улица Коронации» (даже премьера «Дня за днем» была назначена на ту же дату, что и старт «Корри» - 9 декабря), перенеся действие с рабочей окраины Салфорда в коммунальную квартиру на окраине Москвы, заселенную трудящимися трикотажной фабрики «Красный Восток». На общей кухне, заменившей в качестве традиционного места общения персонажей локальный паб «Приют странников», зрители с удовольствием встретились с уже знакомыми по оригинальной версии героями - пожилой ткачихой тетей Пашей (она же Хильда Огден - воплощение привычной к труду женщины с фабричного Севера; образ, принесший Нине Сазоновой популярность, сравнимую с узнаваемостью Джин Александер), шофером-студентом Виктором Баныкиным (он же Кен Барлоу), удачно выскочившей замуж Женей с раздутым самомнением (она же Энни Уолкер) и ее товарками, в том числе сиреной Лелей в поисках новых отношений (она же Элси Таннер).
Но если в «Улице Коронации» сильные женщины, по замыслу создателя сериала Тони Уоррена, составляют слаженный ансамбль, доминирующий над нерешительными безвольными мужчинами, то в «Дне за днем» вся коммуналка подчиняется одному беспрекословному лидеру - жене фабричного художника по тканям Кости Якушева, молодой амбициозной ткачихе Женьке (Нина Попова - на момент съемок очередная из множества жен Анчарова).
«Она у нас всей квартире голова, - наперебой нахваливают Женю обитатели коммуналки, - Она мудрая. Она — руководитель, все по ее выходит». «Самая хорошая жена - это ткачиха, и ты и не выпутывайся», - говорит Якушеву тетя Паша, подтверждая статус Женьки как Паучьей матки Ткацкого дома. Паучиха Женька - это оральная мать - повелительница Закона, сердцевина анчаровского мазохистского фантазма - образа демонической любовницы, одновременно гетерической и садистской. Именно за ней, холодно-заботливо раскрывающей свое смертельное лоно, остается безмолвное последнее слово.
«Мы въезжаем в новый год, в новый дом, а я рожу ребеночка, который въедет в новый век!» - торжествует Женька в финале первого сезона. Анчаров, не раз на страницах своих книг упоминавший «Телемскую обитель, где жили не монахи, а веселые люди, равные и разные», очевидно, отсылает зрителя к Работе Бабалон - ритуальному зачатию Женькой, Костей Барышевым и Димой Антоновым лунного дитяти, магического ребенка Нового Эона - «общего дома под общим небом», каким он видится Виктору Баныкину.



К середине 70-х годов стало понятно, что наступление Нового Эона откладывается. «У нас в старом доме все были свои, а здесь все Чужие, - в отчаянии восклицает работница шоколадной фабрики Ира Агашина (Ирина Акулова) в первом эпизоде нового анчаровского сериала «В одном микрорайоне», - Но ведь не могут же быть люди Чужими?» «Еще как могут», - устало отвечает член-корреспондент АН СССР Коробов (Никита Подгорный), эндогенная депрессия которого обострилась после ухода жены. Разговор происходит под тревожным небом московской окраины, на крыше только что заселенного 17-этажного дома, куда, преодолев шлюз технического этажа - пугающее капище жэковского техника-смотрителя Валеры (Николай Караченцев), выбрались несчастные владельцы ордеров на новое отдельное жилье.
Несчастные потому, что новый дом не отвечает их - и Анчарова - требованиям к эусоциальному уровню организации долгоживущих агрегаций. «И я смотрю благоговейно И про себя шепчу с трудом: "Мой славный старый муравейник, Мой старый дом, московский дом"», - тоскует бард Анчаров о благушинском формикарии «Дня за днем» и отправляет Иру Агашину масштабировать его до размера микрорайона.
Чужими/другими/иными здесь, в этом условном 9-ом микрорайоне Теплого Стана (или, как для краткости называл его Нил Бломкамп, «Районе № 9»), оказываются не те, кого привычно выхватывает взгляд фланера-аутсайдера («Проходя по задворкам столицы, Что ты видишь, угрюмый бедняк? Справа Высшая школа милиции, слева шесть негритянских общаг», - пел легендарный обитатель этого «большого гетто»). Чужими оказываются те, кто не включен в «производящее» сообщество, кто не занят деятельностью ради неясно определенной внешней цели, в общем, те, кто не принимает участия в общественной жизни спецкомендатуры (не случайно фильм независимой студии «Киноотдел ЦПО МВД СССР» «Специальная комендатура», демонстрирующий механизмы надзора за жизнью и работой условно освобожденных и условно осужденных с обязательным привлечением к труду, вышел на экраны в том же 1976 году, что и «В одном микрорайоне»).
В заключительной серии Муравьиная королева Ирина, объединившая в сеть все гнезда термитника, обращается к жильцам с тронной речью: «Представьте, что все вокруг нас - это один огромный живой организм. Я бы хотела в этом организме быть капелькой крови. Потому что когда мы вместе - нас много, а по отдельности никто нас в счет не берет. Но ведь каждый из нас разносит кислород по всему организму, и без нас жизнь невозможна». Полутора годами ранее этими же словами доктор Хаббс, герой фильма Сола Басса «Четвертая фаза», описал устройство колонии муравьев-пришельцев: «Это не отдельные особи, это отдельные клетки, мельчайшие функциональные частицы единого целого. Только представьте себе общество, в котором царит идеальная гармония, каждый выполняет строго определенную роль, а все вместе идеально выполняют задачу, даже не зная о ее смысле. И все это содержится в одной простой форме жизни, такой беззащитной поодиночке и такой мощной в массе».
...«Это уже не квартира, это какая-то странная (weird) родня», - бормотала председатель месткома Пронина в «Дне за днем», в ужасе выпутываясь из ловчей паутины Ткацкого дома . «Это уже не микрорайон, это какая то жуткая (eerie) колония общественных насекомых», - говорили телезрители после первого показа «В одном микрорайоне», повторяя за персонажами «Четвертой фазы»: «Мы поняли, что нас изменили и сделали частью их мира. Мы не знали с какой целью, но знали, что когда-нибудь нам скажут». Спустя 50 лет, когда миллиарды антропоморфных существ без раздумий встраиваются в глобальные системы инсектоидной маршрутизации, такой уровень рефлексии кажется уже недостижимым.
3. Пузырьки.
«Я действительно думаю, что участникам театрального кружка при ЖЭКе под силу сыграть Шекспира!» - говорил в сериале «В одном микрорайоне» солист балета Большого театра Берзинь (Марис Лиепа), взявшийся руководить любительской постановкой. Популярный детский драматург Александр Хмелик пошел еще дальше: он решил показать, что на трактовку одного из самых темных образов в драматургии Шекспира способны даже дети из школьного драмкружка.
В Шотландской пьесе военачальник Банко, спутник Макбета, встретившего на своем пути трех странных (weird) сестер, так объясняет неясную природу их происхождения: «Земля, как и вода, содержит газы - И это были пузыри земли». Комедия Хмелика «Пузырьки» - мрачное повествование о скрытой витальности кажущейся безжизненной материи - стала первой пьесой, опубликованной в 1965 году в «Фонарике» - новой рубрике журнала «Пионер», призванной способствовать формированию репертуара самодеятельных школьных театров, и с успехом прошла по сотням любительских и профессиональных сцен, прежде чем попасть в тематический план «Мосфильма».
Фильм, вышедший на киноэкраны 25 марта 1976 года (когда Центральное телевидение завершало показ «В одном микрорайоне»), начинается как похождения маленьких шкуроходов в поисках мастер-клада: «Нам на чердаках и во дворах везло. Сколько, интересно, будет веса?» - горланят под бодрую музыку Павла Аедоницкого пионеры из 5-ого «А», вышедшие в город на «четвертую охоту» - сбор промышленных и бытовых отходов: металлолома, макулатуры и, что важнее всего для сюжета, вторичного стекла. Хмелик здесь прямо отсылает зрителей к стихотворению Эммы Эфраимовны Мошковской «Флаконы и одеколоны», в котором малолетняя школота варварски расправляется с запасами родительской парфюмерии, чтобы выручить за сданное стекло деньги «для октябрятской копилки». Стихотворение это, опубликованное в 1962 году в одном сборнике со спиритической психодрамой «Я дедушку Ленина встретить хочу!», еще долго отзывалось культурным эхом: «Мне бы побольше различных флаконов: Кремов, лосьонов, одеколонов».



«Металлы меня не беспокоят, а вот пузырьки - да, с пузырьками мы того...» - бормочет инфернальный пепельный блондин Юра Нечаев - председатель совета отряда, возглавляющий дикую охоту за вторсырьем. Речь его, как и двух его подручных - громилы Нечитайло и субтильного Лаптева с обидным погонялом «Тимуровец» - нарочито обрывочна (Макбет не случайно называет встреченных им трех странных созданий «несовершенными ораторами» (imperfect speakers)); все их существование подчинено единственному желанию - завладеть как можно большим количеством пузырьков, не останавливаясь для достижения этой цели перед самыми низкими поступками. В сцене, не вошедшей в фильм, Нечаев говорит своему старшему брату Косте, что «каждый в два счета вырвал бы из своего сердца» возлюбленную, лишь бы заполучить заветные пузырьки. «Костя смотрит на брата почти с ужасом»: сценическая ремарка Хмелика не оставляет сомнений в подлинном жанре этой «комедии» - в закадровом вступлении к фильму он определен как «жуткая история».
Последние кадры картины в литсценарии Хмелика описаны так: «Юра сидит заваленный пузырьками, тупо смотрит на них. Потом, взяв один в руки, внимательно рассматривает и тихо смеется: «Пузырьки... хм. Пузырьки... Пузырьки...» (Он тупо повторяет это слово, и лицо его принимает прежнее безразличное выражение)».



Что же это за пузыр<�ьк>и, столкнувшись с которыми, странная троица пионеров-старьевщиков пришла к такому жуткому финалу? The earth hath bubbles, as the water has, And these are of them, - говорит Банко. Странные сестры - это не закрепившиеся в обиходе русского читателя «пузыри земли», но духи, сгустившиеся из пузырящихся выделений земли, из «тумана и гнилостных испарений» (the fog and filthy air).
Просачиваясь изнутри, из хтонической черноты Земли, эти миазмы выходят на поверхность как парадоксальные проявления материи, которые сами по себе являются «ничем», небытием, но, проникая в антропоморфного агента, внедряют в него свое неорганическое сознание. Мусор, бытовые отходы, вторсырье - это концентрированное скопление потенциально контагиозной материи, способное порождать миазматические потоки и летучие облака химических элементов и соединений, интенсифицируя процессы распада.
«Первыми сегодня мы пришли на сбор!» - ликуют пионеры в начале фильма. Но очень скоро под воздействием ксенохимического инсайдера юные собиратели из субъектов, понимаемых в психобиологических терминах (желание обладать пузырьками как проявление стяжательства и алчности), превращаются в объекты сборки, начинающейся с субверсии - разложения без полного уничтожения, разоснования в нечто, нередуцируемое к ничто.
Конвульсирующий среди сотен пузырьков Нечаев артикулирует не просто ужас тела, но ужас самой материи, ужас распада, обращенного в пустоту. Люди, по Хмелику - это средство для материи производить и воспроизводить себя, это химические элементы, высвобождаемые по мере дезинтеграции и выпаривания бактериальной грязи пылевого супа. Хмелик не случайно доверил экранизацию «Пузырьков» своему коллеге по первым выпускам «Ералаша» Валерию Кремневу. Кремний (кремнезем) - главный составляющий компонент песка, являющегося основным ингредиентом стекла. Нечаев-пузырек манифестирует надвигающиеся углеводородные сумерки кривляющегося в «экологическом» самолюбовании человечества и его потенциальный переход в кремниевую форму существования.
4. Про дракона на балконе, про ребят и самокат.
Фильм «Девочка и крокодил», поставленный в 1956 году ленинградскими режиссерами Иосифом Гиндиным и Исааком Менакером по сценарию черного фантаста «Детгиза» Григория Ягдфельда и его "запасного" соавтора, физкультурницы Нины Гернет, по праву считается классикой фильмов про монстров Атомной эры наряду с такими шедеврами как «Тайна вечной ночи» и «Это прибыло со дна моря», «Тварь из Черной лагуны» и «Человек-амфибия», «Седьмое путешествие Синдбада» и «Знамя кузнеца». Это классическая история вторжения извне и рейдерского захвата существующей экосистемы с целью ее модификации.
Привезенное из Африки отцом мальчика Мити, капитаном дальнего плавания «странное (weird) яйцо» оказывается овоморфом, из которого появляется «странное (weird) маленькое существо, похожее сразу и на ящерицу, и на сказочного дракона» (и, по словам няньки Аннушки, «на нечистую силу»). Подросшая тварь, атрибутированная как крокодил, сбежав от Мити и его помощницы Кати, проникает в город через ливневую канализацию (этот отважный сюжетный ход лишь в 1980 году решится повторить Льюис Тиг в «Аллигаторе»), чтобы вовлечь все вокруг себя в то, что первоначально воспринимается как контингентность текучих метаморфоз (все куда-то движется и во-что-то превращается (отсюда многочисленные отсылки Ягдфельда к любимой им «Алисе»: белоснежный кролик, коробкa из-под ботинок «Скороход» (Англосаксонский гонец) и ящик для игры в крокет (разумеется, королевский))), но в итоге оказывается контролируемой пересборкой существующей системы с инкорпорацией чужого, внешнего элемента в качестве ее привычной части и последующим утверждением нового порядка из управляемого хаоса.
Происходящее на экране налучшим образом передано в описании психоделического сна Мити в новеллизации сценария, осуществленной Гернет и Ягдфельдом по горячим следам и опубликованной в третьем выпуске популярного альманаха «Мир приключений» в 1957 году: «Кошка прыгнула на скворца и проглотила его. А крокодил прыгнул на кошку и проглотил ее. Тут из дачи выскочила Володина тетя с ружьем и выстрелила в крокодила. Крокодил взлетел к небу — и вот уже это не крокодил, а гриф из Брема. В когтях он держит эмиду европейскую. Хрипло захохотав, гриф разжимает когти. Черепаха летит вниз со страшной высоты, ударяется о скалы и разлетается на тысячи осколков… Каждый осколок превращается в большой мухомор. Кролики бросаются на мухоморы, пожирают их… и падают мертвыми».
Вдохновленные незатихающим интересом к книге и фильму (в 1965 году режиссер Вера Шимкова и сценарист Ота Гофман, будущий автор хонтологических «Гостей из будущего» и ктулхианских «Осьминожек с третьего этажа», сняли ремейк картины, в котором акцентировали мотив вторжения как разрыва в ткани реальности: операция захвата начинается с едва заметной остановки времени на Малостранской Замковой лестнице), Ягдфельд и Гернет решили повторить успех. В 1967 году в очередном выпуске «Мира приключений» вышла их новая киноповесть «Пропал дракон», сюжетно и композиционно схожая с «Девочкой и крокодилом» до степени неразличимости (Миша Коробкин и Лида Шершилина пытаются найти и вернуть тритона, убежавшего по их недосмотру из террариума писателя-путешественника) и предсказуемо провалившаяся у читателя.
Ягдфельд, похоже, был готов к такому исходу и поспешил обвинить Гернет в неспособности придумать оригинальные сюжетные ходы: «Слушай, Шершилина, я до сих пор не понимаю, почему сo мной послали тебя, а не Витю Витковича», - говорит Миша своей напарнице. Виктор Виткович не мог придти на помощь постоянному соавтору: он, как и 10 лет назад, прислуживал при Ташкентском дворе могущественного халифа Шарафа аль-Рашидова, на этот раз перекраивая вышедшую из-под блистательного пера Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана «Кашмирскую песнь» в сценарий мультфильма «Наргис».



В 1973 году, незадолго до своей смерти, художественный руководитель «Беларусьфильма» Владимир Корш-Саблин, сжалившись над Ягдфельдом, распорядился включить залежавшуюся киноповесть в студийный план. Амбициозный дебютант Геннадий Харлан, однофамилец немецкого киноремесленника, снявшего печально известный приквел «Оппенгеймера», решительно переписал сценарий, выкинув из него всякие упоминания о тритонах. Речь больше не идет о земноводных, свойства которых так интересовали лорда Тантамаунта и Гасси Финк-Ноттла. Лида и Миша оказываются персонажами пишущегося по ходу фильма нового рассказа путешественника Мамонтова (оператор Леонид Пекарский подчеркивает эту удваивающуюся «театральную» реальность заниженным à la Ясудзиру Одзу кадром) и отправляются на поиски пропавшего таинственного существа, которое они успели увидеть только мельком, и которое Мамонтов (Анатолий Адоскин) называет исключительно «драконом» и представляет как своего партнера по игре в домино.



«Нам нужен дракон!» - в отчаянии восклицает Лида, выпутываясь из адского лабиринта проволочных ящиков. «Я этих драконов в жизни не видал, показали бы хоть одного», - удивляется предприимчивый перекупщик животных. Если в «Девочке и крокодиле» - традиционной «крича-фича» - ужас возникал от встречи с монстром как природной аберрацией, то в версии Харлана его источником является зазор между ускользающей из перспективы человеческого понимания реальностью и смутно-релевантным ее описанием. Реальный объект, по Харлану, не ухватывается совокупностью привычных репрезентаций - вот почему вместо «дракона» оборотистый спекулянт предлагает Лиде то хомяка, то ежика, а то и вовсе полканов/пеликанов. «Оно похоже с одной стороны на лягушку, а с другой на ящерицу, - пытается сложить отдельные свойства этого «Бурого Дженкина» в известную феноменологическую фигуру рассеянный Сергей Васильевич (Сергей Мартинсон), - Я бы сказал, что Оно - нечто среднее между ящерицей и лягушкой».
Сверхъестественный ужас, каким он предстает в фильме Харлана, реалистичен, но не натуралистичен. Дракон здесь - это «вещь-в-себе», негативный предельный концепт «неизвестного». Ознакомившийся с режиссерским сценарием Ягдфельд оказался не готов признать себя в неуверенном рассказчике, столкнувшемся с невыразимой реальностью. Пионерскую модель спекулятивного хоррора, предложенную Харланом, он назвал «набором развлекательных трюков без основной мысли и внутренней логики», заявив, что снимает с титров свое имя. Телефильм «Пропал дракон» вышел в эфир в мае 1977 года под новым, наскоро придуманным названием, а окончательно зашедший в писательский тупик Ягдфельд занялся бесконечным переписыванием и редактированием своих ранних пьес.
|
|
</> |

 Аппаратная замена масла в автомобиле: преимущества вакуумной технологии над традиционными методами
Аппаратная замена масла в автомобиле: преимущества вакуумной технологии над традиционными методами  «Bookship», Мария Закрученко: отзыв, рецензия, краткое содержание
«Bookship», Мария Закрученко: отзыв, рецензия, краткое содержание  Сталинским маршрутом!
Сталинским маршрутом!  Поход на скалодром
Поход на скалодром  «Коты с мощной аурой»: 18 уморительных фотографий котиков, которые поднимут вам
«Коты с мощной аурой»: 18 уморительных фотографий котиков, которые поднимут вам 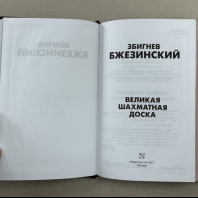 Украина: игра в поддавки с Россией
Украина: игра в поддавки с Россией  Внимание! Новая схема мошенничества
Внимание! Новая схема мошенничества  Самый отвратительный снимок из Нюрнберга: над чем смеялись нацистские вожди в
Самый отвратительный снимок из Нюрнберга: над чем смеялись нацистские вожди в
 Доставка попутного груза — что это, ее особенности и документация
Доставка попутного груза — что это, ее особенности и документация 


