Материалы о творчестве В.П. Некрасова и о нём самом
 paul_atrydes — 03.11.2023
Среди книг, появившихся сразу же по окончании войны, одной из самых
примечательных был роман Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»
(1946).
paul_atrydes — 03.11.2023
Среди книг, появившихся сразу же по окончании войны, одной из самых
примечательных был роман Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»
(1946).Это не просто талантливый роман. «В окопах Сталинграда» сыграл в известной мере принципиальную роль в развитии военной прозы. В нем была сделана заявка на многое такое, что могло проявиться полностью лишь позднее.
Чудес в жизни не бывает: на книге Некрасова тоже лежит отпечаток своего времени, и ей присущи некоторые слабости, от которых в дальнейшем наша литература освободилась. Но, повторяю, роман этот принципиально важен. Вместе со «Спутниками» В. Пановой он проложил такие пути в нашем искусстве, которые представляются не единственно возможными, но весьма и весьма плодотворными.
Роман отличается своей, я бы сказал, демонстративной локальностью. В нем рассказывается лишь то, что видел и пережил молодой офицер-лейтенант Керженцев. А пережил он немало горестного: он отступал летом сорок второго года, попадал в окружение, добрался до Сталинграда, воевал в немыслимых условиях среди городских развалин, на знаменитом Мамаевом кургане. Он был ранен и потерял многих из своих товарищей, и он дожил до тех выстраданных и желанных дней, когда наши войска добились великой победы на Волге. Этот локальный принцип выражен и во внешнем повествовательном приеме — рассказ ведется от имени самого Керженцева. Это вроде дневниковых заметок, воспоминаний, почти очерковых записей. Характерно, что «В окопах Сталинграда», как и «Спутники», воспринимались почти как документальная проза. В предисловии от издательства так и говорилось: «Книга В. Некрасова имеет, безусловно, большое документальное значение и художественную ценность».
Автобиографическая основа «В окопах Сталинграда» несомненна. Но эта книга, как и «Спутники», не документальный очерк, а художественное произведение, и упреки, которые делались автору насчет того, что в книге отсутствовали обобщения, несправедливы. Для понимания характера этих обобщений показателен финал книги. Друг Керженцева разведчик Чумак приносит немецкую газету.
«Буквы прыгают перед глазами — непривычные, готические. Дегенеративная физиономия Гитлера — поджатые губы, тяжелые веки, громадный, идиотский козырек.
«Фелькишер Беобахтер»...
Речь фюрера в Мюнхене 1 ноября 1942 года — почти три месяца назад...
«Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская артерия — Волга — парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места.
Это говорю вам я — человек, ни разу вас не обманывавший, человек, на которого провидение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю — вы верите мне, и вы можете быть уверены — я повторяю со всей ответственностью перед богом и историей, — из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хотели этого большевики».
Чумак трясется от смеха.
— Ай да Адольф! Ну и молодец! Ей-богу, молодец. Как по-писаному вышло. Валега, налей-ка по этому случаю.
Валега наливает. Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками.
— А почему, инженер? Почему? Объясни мне.
— Что почему?
— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?»
Таким образом, внутреннее задание книги, выраженное почти с публицистической прямолинейностью, — отчетливо и ясно. Автор хочет ответить на вопрос, почему армия Паулюса, прорвавшаяся в самую глубь нашей страны, к Волге, в конце концов была разбита наголову и уничтожена, шире говоря — в чем источник нашей победы в этой невероятно тяжелой войне? Ответа на этот вопрос Некрасов, как и другие наши писатели, ищет в людях, в их душевном строе. Когда лихой разведчик Чумак спрашивает, почему мы выстояли и победили в Сталинграде, Керженцев думает про себя:
«Вот они — эти несколько домов. Вот он — Мамаев, плоский, некрасивый... И точно прыщи — два прыща на макушке — баки — Ох и замучили они нас! Даже сейчас противно смотреть... А за теми вот красными развалинами — только стены, как решето, остались — начались позиции Родимцева, полоска в двести метров шириной... Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров... Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров... Хо-хо!
А Чумак спрашивает — почему? Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросит меня, почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. «Зачем добро бросать — пригодится». Я не помню даже его фамилию. Помню только лицо его — бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы».
Сама постановка вопроса, совершенно закономерная и естественная, присуща была всем, кто размышлял о войне. И здесь Некрасов ничего нового не сказал. Новое заключалось в характере изображения человека на войне. Уже в приведенной цитате нельзя не обратить внимания на то, как говорится о подвиге пулеметчика: он — «старичок», и пилотка у него — «поперек головы», в нем нет ничего от плакатного богатыря, но совершает он поистине геройские дела.
Вернемся к началу романа и посмотрим, как передает Некрасов дни наших бедствий, лето и осень 1942 года. Керженцев рассказывает об окопном быте перед приказом об отступлении.
«Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, а заодно постирали трусы и майки. В ожидании, пока они высохнут, лежали на берегу мелкой речушки, наблюдая за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков».
«Хуже нет лежать в обороне», — думает Керженцев. И у читателя возникает мысль об опасностях, подстерегающих наших солдат и офицеров. Оказывается, нет, дело все в том, что «каждую ночь — поверяющий. И у каждого свой вкус». Так Некрасов рисует войну в ее прозаической повседневности. Писателю ненавистна риторика, громкая и высокопарная декламация. Батальные эпизоды, в особенности когда речь идет об отступлении, даны как хаотическая сумятица, как тяжкий труд. Военный быт, как он предстает непосредственному восприятию, — вот что прежде всего интересует художника. И картины этого военного быта поражают своей достоверностью, искренностью, своей неприкрашенной правдивостью.
«Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца воюем, а вот уже нет ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон. И ведь совсем недавно в бой вступили — двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо — с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке. Одним словом, пользы принесли мало.
Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контрэскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, заменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там — опять дзоты, опять эскарпы и контрэскарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы не долго обороняли город — два дня. Пришел приказ отходить на левый берег. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах на том берегу.
«Вот тут-то уже, — думалось нам, — долгонько пролежим. Черта с два немца через Оскол пустим!»
А он только постреливал в нас из минометов. Мы отвечали. Вот и вся война».
«Дорога запружена. Форды, газики, зисы, крытые громадные студебеккеры. Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки. .. Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие-то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых. Два обозника верхом на коровах. Вместо поводьев — обмотки, привязанные к рогам».
Такой характер изображения войны требовал от писателя не только честности и зоркого глаза, но и мужества. Вспомним, что вскоре роман Фадеева «Молодая гвардия» жестоко разбранят именно за то, что отступление и эвакуация изображены в нем как хаотическая сумятица. Да и против романа Некрасова тоже раздавались голоса протеста, в которых звучали сходные мотивы. Некрасов был озабочен тем, чтобы поведать правду о войне, и, выступая против приукрашенного ее изображения, он делал нужное и полезное для всей литературы дело.
Он отказался от риторики и полуправды, от традиций «ложно величавой» школы и в обрисовке людей. Всем ходом повествования Некрасов как бы говорил— надо отбросить внешнюю мишуру, полудетские иллюзии, будто большие дела творят какие-то необыкновенные и исключительные люди. Вовсе нет — они самые обыкновенные смертные, и писатель даже демонстративно подчеркивает это. Вот портрет ординарца Керженцева Валеги: «Ботинки ему непомерно велики — носки загнулись кверху, а пилотка мала, торчит на самой макушке. Я знаю, что в ней воткнуты три иголки — с белой, черной и защитного цвета ниткой».
В этом портрете нет ничего героического. Может быть, маленький молчаливый Валега л непомерно большими ботинками, у которых загнуты кверху носки, чем-то напоминает знаменитого Чарли. Может быть, у него немало комичных черт. Но он твердый и верный товарищ, и на него можно положиться: этот не подведет ни в какой беде.
Таков простой, полуграмотный солдат. А вот портрет командира полка майора Бородина:
«Майор живет в крохотной, как курятник, подбитой ветром землянке. Немолодой уже, с седыми висками, добродушно отеческого вида. На одной ноге сапог, на другой — калоша. Пьет чай с хлебом и чесноком. Покряхтывает. Такие любят детей. И дети их любят. И мешают им, и теребят, и заставляют раскачивать себя на коленях.
Майор внимательно слушает меня, шумно отхлебывая чай из большой раскрашенной кружки. Здоровой ногой отодвигает стоящий рядом стул. Протягивает мягкую руку.
— Вот ты какой, значит. А я почему-то думал, что большой, мордатый, косая сажень — Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке. — Чаю хочешь?»
В этом же эпизоде есть такая деталь. Керженцев видит рисунок на пачке папирос: «Под красной косой надписью бегут красные солдаты в касках, за ними красные танки, а над головой красные самолеты.
— Так ли в атаку ходите? А?
— А мы больше отбиваем, чем ходим, товарищ майор.
Майор улыбается».
В примитивной этикетке на пачке папирос — все то ложное, неправдивое, что, может быть в смягченном и более тонком виде, можно было найти и в книгах профессиональных литераторов.
Надо было иметь немалое мужество, чтобы рассказать о величайшей в мировой истории битве и о боях на самом опасном участке Сталинградского сражения — на Мамаевом кургане — в таких спокойных, будничных тонах. Можно ли считать оправданным именно такой принцип изображения войны? Способен ли он был передать всю значительность событий? В искусстве бесконечно многообразны пути постижения действительности. И тот путь, который избран был Некрасовым и Пановой, доказал свою жизненность и плодотворность. Война с фашизмом была наполнена таким трагическим пафосом, она изобиловала событиями столь острой драматической напряженности и требовала от наших людей такого повседневного самопожертвования, что повествовать обо всем этом словами громкими и патетическими значило бы не усиливать звучание этих событий, а ослаблять его. Патетика стиля, наложенная, если можно так выразиться, на патетику самой жизни, могла привести к нулевому результату.
Роман Некрасова свидетельствовал, что избранная им манера способна передать не только горечь неудач, но и предвосхищение победы. Принцип бытовой детализации проявляется в книге многообразно. Нарастают приметы того, что немцы устали и выдыхаются, все явственней и признаки нашей крепнущей силы. Но самое главное, что подчеркивает писатель: у советских людей ни на секунду не ослабевает воля к борьбе и движет ими, по словам Некрасова, то, что Лев Толстой называл скрытой теплотой патриотизма. Вот характерная сценка. Керженцев и его друг Игорь попадают в милый и уютный семейный дом. Чистота, покой, красивая девушка, дочь хозяев, играет на пианино.
«Сколько раз мечтал я на фронте о таких минутах— вокруг тишина, никто не стреляет, и сидишь ты на диване и слушаешь музыку, а рядом — хорошенькая девушка. И вот я действительно сижу на диване и слушаю музыку... И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Знаю только, что с того момента, как мы ушли с Оскола, нет — позже, после сараев, — у меня все время в душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение такое, будто я и то, и другое, и третье.
Несколько дней назад, где-то около Карповки, кажется, сидели мы с Игорем на обочине и курили. Валега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть — новенькая, идущая на фронт. Молодые, весёлые бойцы, с медными от загара лицами, тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то боец, весело окликнул звонким, как у запевалы, голосом.
— Здорово окопались, господа военные! Ни пуля, ни мина не достанет...
И все захохотали вокруг него, а он, батарейный заводила по-видимому, добавил:
— Самоварчик бы еще да вареньица...
И опять хохот...»
В толстовских словах о скрытой теплоте патриотизма, кажется, Некрасову особенно мил эпитет — скрытая. Высокие чувства и мысли не терпят искусственной экзальтации, афиширования, так как война — самое суровое и беспощадное испытание и от ее безжалостного суда ничто не скроется. Керженцев думает об этом так:
«Только на войне по-настоящему узнаешь людей. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь, и спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него трудны определяемые словами понятия. Но за эту родину — за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Урале, за Сталина, которого он никогда не видел, но который является для него символом всего хорошего и правильного, — он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны — кулаками, зубами... Вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела — покажет себя».
И вот в связи с этой мыслью о войне как беспристрастном ценителе истинного и ложного, подлинного и показного следует остановиться на очень важном мотиве, который Некрасов затронул в романе. Этот мотив в силу понятных обстоятельств не мог быть широко развит в сороковых годах. Но в самой постановке вопроса опять-таки сказалась и смелость и проницательность писателя. Я имею в виду фигуру начальника штаба полка Абросимова — фигуру эпизодическую, но во многих отношениях знаменательную. Среди героев романа наряду с настоящими, верными и стойкими людьми есть персонажи, которых писатель ненавидит, и такие, над которыми он посмеивается. Достоин презрения Калужский, помощник по тылу, — «от него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красно и лоснится». Это трусливый и подлый шкурник. С презрительной усмешкой рассказывает Некрасов о помощнике начальника штаба Астафьеве, не очень храбром человеке, самовлюбленном позере, который озабочен главным образом сочинением истории полка. «Молодой, изящный, с онегинскими бачками и оловянным взглядом. Он чуть-чуть картавит, на французский манер. По-видимому, считает, что ему это идет. Мы с ним знакомы только два дня, но он почему-то уже считает меня своим другом и называет Жоржем. Его же зовут Ипполитом. По-моему, очень удачно. Чем-то неуловимым напоминает он толстого Ипполита Курагина. Так же недалек и самоуверен. Он доцент истории Свердловского университета. Куря папиросу, оттопыривает мизинец и дым выпускает, сложив губы трубочкой.
Профессия обязывает, и он уже собирает материал для будущей истории».
Но особенную ненависть вызывает у писателя капитан Абросимов. Вот его первое появление: «Небритое лицо. Серые холодные глаза. Прямой костистый нос. Волосы зачесаны под пилотку. Самое обыкновенное усталое лицо. Слишком холодные глаза». Один из саперов говорит о нем: «Я даже с Абросимовым на ты, а он — капитан. Между прочим, — Лисагор понижает голос, наклоняется ко мне и дышит прямо в лицо, — опасный парень. Людей не жалеет. По виду спокойный, а в деле — кипяток. Совсем голову теряет. Бурлит и сплеча рубит». «Людей не жалеет». Это то главное, что делает Абросимова ненавистным в глазах писателя. И именно эта бесчеловечность толкает Абросимова почти на преступление. Вопреки здравому смыслу и военной целесообразности, не считаясь с ненужными потерями, он посылает батальон в лобовую атаку, и половина людей погибает. Командир полка Бородин говорит об этом: «Не бывает войны без жертв. На это и война. Но то, что произошло во втором батальоне вчера, — это уже не война. Это истребление».
Абросимова судили и разжаловали в штрафную. Показателен такой штрих: Абросимов своей вины не признал. Он убежден, что поступил правильно. Он людей не жалеет, потому что не любит их и не доверяет им. В своей защитительной речи на суде чести он снова повторил, что «баки можно было взять только массированной атакой. Вот и все. И он потребовал, чтобы эту атаку осуществили. Комбаты берегут людей, поэтому не любят атак. Баки можно было только атакой взять. И он не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, струсили...»
Таков Абросимов — зловещая фигура «волевого командира». Некрасов мимоходом оттеняет то, что для Абросимова самым главным, в сущности, было стремление выслужиться перед начальством. Упрек командира дивизии довел его до такого накала, что он пошел на преступление. Абросимов — из тех бессердечных людей, которые во имя своей карьеры готовы пожертвовать человеческими жизнями, не считаясь ни с чем.
В нашей критике справедливо отмечалось, что советская литература уже давно «подбиралась» к психологическим и этическим явлениям такого рода. Иногда писатель, подметив эти явления, не давал им верной оценки, как это было с Листопадом в романе Пановой «Кружилиха». В случае с Абросимовым писатель, не развернув во всю ширь проблему, сумел, однако, сильно и определенно оценить самый тип Абросимова как нечто глубоко чуждое всем устоям нашей жизни.
Принципиальная важность романа Виктора Некрасова состоит в том, что он сумел в довольно сложной обстановке дать картину войны во всей ее жизненной истинности, без лжеромантических прикрас, затронув такие проблемы, которые затем позднее, уже в иных исторических условиях, нашли широкое развитие в романах и повестях Симонова, Бондарева, Бакланова, Быкова, Крона, Розена и многих других.
Жизненность путей, намеченных Некрасовым, очевидно заключается в том, что в его романе сказались славные традиции русской прозы, традиции Толстого и Чехова. Дело даже не в том, что толстовские мысли о патриотизме лежат в основе романа или что Астафьев напоминает Керженцеву Курагина из «Войны и мира» Л. Толстого. Дело в том, что в самой манере повествования, сдержанной, целомудренно-простой, чуждой всякой аффектации, в самом отвращении к позерству и всяческому наигрышу сказалась хорошая школа русского искусства.
В дальнейшем отдельные последователи Некрасова утрировали некоторые слабые черты его романа, да и сам Некрасов в таких рассказах, как «Вторая ночь», отошел от верных путей, им самим найденных. Об этом речь будет идти дальше. Но то, что утверждено было романом «В окопах Сталинграда», стало прочным завоеванием всей советской литературы.
Плоткин Л. Литература и война. Великая Отечественная война в русской советской прозе. М.—Л.: Советский писатель, 1967.
В. Некрасов
Резолюция: «Тов. Поликарпову Д.А. Просьба выяснить и переговорить. М. Суслов. 11 января 1965 г.»Ф. 5. Оп. 55. Д. 139. Л. 34, 35—36. Подлинник.
__________________
1. В записке идеологического отдела ЦК КПСС от 18 января 1965 г. подтверждались факты, изложенные в письме В.П. Некрасова. Задержка с опубликованием объяснялась «упорным нежеланием автора пойти на существенные исправления своих рукописей». Вместе с тем сообщалось, что одобрена и принята к изданию в 1966 г. рукопись книги очерков о поездке В.П. Некрасова на Сахалин, над которой он работал в 1963—1964 гг., и намечено также переиздание повести «В окопах Сталинграда». В записке рекомендовалось издательству «Днипро» ускорить работу над подготовкой к печати новой книги очерков В. Некрасова с тем, чтобы она вышла в свет в 1965 году. Эту книгу, — говорилось в записке, — можно было бы издать в текущем году и в издательстве «Молодая гвардия». Издательству «Советский писатель» и редакции журнала «Новый мир» предлагалось продолжить работу с автором. С предложением отдела согласились секретари ЦК КПСС М.А. Суслов, Л.Ф. Ильичев, А.Н. Шелепин, Б.Н. Пономарев, Н.В. Подгорный. В справке Д А. Поликарпова от 27 января 1965 г. сообщалось о том, что «секретарю ЦК КП Украины т. Скабе А.Я. передана рекомендация о желательности издать очерки Некрасова о Камчатке и Сахалине в 1965 г.» (Ф. 5. Оп. 55. Д. 139. Л. 32—33).
Аппарат ЦК КПСС и культура. 1958—1964: Документы. М., 2005.
|
|
</> |

 Как строится организация wifi сетей в разных средах
Как строится организация wifi сетей в разных средах  Зубастая Губастая акула
Зубастая Губастая акула 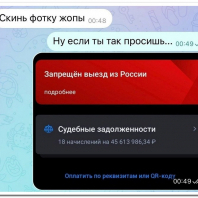 Забавные комментарии из социальных сетей (23.06.25)
Забавные комментарии из социальных сетей (23.06.25) 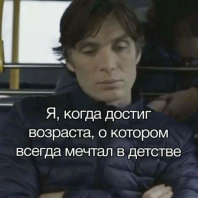 36
36  Хунвэйбины на площади Тяньаньмэнь
Хунвэйбины на площади Тяньаньмэнь  Денис Мацуев — прославленный пианист (из интервью):
Денис Мацуев — прославленный пианист (из интервью): 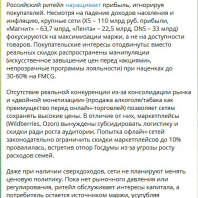 #Рывок&Прорыв Особенности национального ритейла
#Рывок&Прорыв Особенности национального ритейла 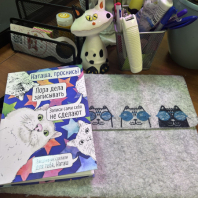 Без названия
Без названия  Шпионы (2012) - Северокорейская миссия невыполнима
Шпионы (2012) - Северокорейская миссия невыполнима 



