Лидия Корнеева Чуковская "Записки об Анне Ахматовой: 1952-1962"
 mint_lavender — 03.11.2021
mint_lavender — 03.11.2021
Я, как и планировала, вернулась ко второму тому воспоминаний Лидии Корнеевны Чуковской об Анне Ахматовой. Они охватывают послевоенную жизнь и XX съезд коммунистической партии, после которого последовала реабилитация многих невинно осужденных. Это длинный отрывок, но он очень важный, надеюсь, что у вас найдется время прочесть.
«20 марта 56 Мне хочется спросить у Анны Андреевны: почему так тяжело на душе? Сквозь счастье?
Уж если она не объяснит – больше некому.
У нас теперь много радостей, но каждая чем-то отравлена. Даже величайшая из всех возможных – возвращение друзей.
Разве я не рада? Тогда я просто деревяшка, пень, оледенелая глыба.
Можно брать их к себе на житье, одевать, лечить, хлопотать о скорейшей реабилитации, о комнате для них, о восстановлении в Союзе – я это делаю сама и помогаю делать другим – и все удается.
Это ли не радость?
И изгнанники в доме моем…
А на душе, вместе с радостью, какая-то ядовитая муть.
Стыд перед ними, что их судьба миновала меня? Стыд за молчание, свое и наше общее, когда они подвергались мучениям?
Но ведь заговорить тогда – это значило вырыть себе своими руками могилу и лечь в нее. Живьем. И рядом с собой положить своих близких. Погибнуть и не принести ни малейшего облегчения мученикам.
(Логически это может служить оправданием, но почему-то не служит. Стыд, хоть и не дым, а ест глаза.)
Это вот – одна отравленная радость.
Но есть и другая. Огромная и тоже отравленная.
Мы дожили до светлого часа: слово "Сталин" стоит наконец рядом со словом "застенок". (Пусть по-ихнему: "культ" и "массовое нарушение социалистической законности".)
Пусть! Хоть и на ихнем жаргоне – а все равно, счастье.
Но и это счастье испорчено, замутнено для нас, и тут я догадываюсь – чем. Опять по команде: "поворот все вдруг". По команде славили, теперь по команде будем хаять.
Фридочку вызвал в редакцию Камир и попросил срочно убрать из "Повести о Зое и Шуре" тот абзац, где Зоя полумолитвенно размышляет о Сталине.
– Не трудно вам будет? – спросил он.
– Почему же мне может быть трудно? – ответила Фрида. – Ведь это вы сами, Борис Исаакович, вписали в мою рукопись абзац о Сталине. С текстом он не сросся, убрать его оттуда теперь – легче легкого.
Позвонил Камир и мне – по поводу "Чалдонки". Там десятилетний школьник Володя, во время войны, пишет Сталину письмо об изобретенной им пушке: построить такую – и наша армия сразу победит немцев. Ничего холуйского в письме нет, обыкновеннейшая детская техническая фантастика. (Я подобных писем Сталину от школьников видела десятки.) Так вот Камир на днях позвонил мне: "советую вам подумать вместе с автором". Думать нам не о чем, мы с удовольствием убрали проклятое имя и переадресовали Володино письмо Ворошилову. Но у нас обоих такое чувство, будто мы снова измазались в какой-то гадости. От этого начальственного приказа вычеркнуть одно и вставить другое имя повеяло на меня очередной кампанией, которой, если она кампания, грош цена, повеяло запахом времени, которое, как нас хотят уверить, навсегда прошло. Вправду ли прошло? Если бы вправду, то и Камир прошел бы вместе с ним, а он по-прежнему начальствует! по-прежнему распоряжается! и при этом совершенно на прежний манер… Даже словцо "подумайте!" – оно тогдашнее, из прежнего времени: следователь выпроваживает своего упорствующего собеседника в коридор и дружески предлагает "посидеть и подумать". (Между коридором того заведения и издательским – такая ли уж большая разница? Но мы в этом случае не упорствовали…)
Анна Андреевна просила меня, когда документ будут читать в Союзе, непременно прослушать. (Читают всюду кругом, даже школьникам старших классов.) Просила, если окажется возможно, сделать конспект. Мне и самой, конечно, хотелось своими ушами услышать благую весть. Но если бы не Фрида, я вряд ли удостоилась бы. Случилось так: сначала мне позвонил Могилевский-Октябрьский и сообщил, что в среду, в 6 часов, будут читать "важный партийный документ" и мое присутствие "весьма желательно". (Я чуть было не спросила, давно ли меня приняли в партию.) Накануне назначенного часа позвонила секретарша: чтение в детской секции отменено. Я встревожилась: где я теперь услышу? И тут выручила Фридочка: на днях, совершенно внезапно, вызвала меня в Союз. Я сразу смекнула, в чем дело, и помчалась. Мы пошли в партком, к Сытину, просить, чтобы нас допустили, если где-то читают. А Сытина нет. И вдруг мы увидели: все, тихонько ожидавшие в коридоре, потекли в конференц-зал. Фридочка молча меня подтолкнула, и мы пошли со всеми. Какая это была секция, я так и не поняла: судя по Левику и Станевич, по-видимому – переводческая. Всего человек тридцать. Мы сели за длинный стол. Молодая миловидная дама в зеленом костюме заперла дверь на ключ и села во главе стола. Читала она очень отчетливо, с интеллигентными интонациями. Чтение длилось два с половиной часа. Доклад составлен почти без казенных фраз. Очень неприятно, что трагедия понята только как трагедия коммунистов, а беспартийных будто и не губили миллионами. Но, в общем, толково.
Мы с Фридочкой, как и все, слушали молча, сидели неподвижно, не переписываясь и не перешептываясь. И не конспектировала я ничего: ведь это панихида, суетиться грех. Письмо Эйхе! Письмо Эйхе! Концентрат, сгусток. Когда читались письма казненных, женщины плакали. Все плакали, кроме нас с Фридой. Меня и не тянуло расплакаться, напротив, я испытывала к плачущим злобу: уж слезы ронять они могли бы и раньше. Другим эти судьбы, быть может, в новинку, а мною давно оплаканы и даже отчасти описаны. Не из доклада Хрущева узнала я, в каких руках были наши близкие.
А они – из доклада?
Фридочка пошла меня провожать, и, когда мы шли бульваром, я у нее спросила: как она думает, почему женщины плакали? о ком и о чем? О замученных? О своем преступном молчании?
– Думаю, – ответила Фрида, – они оплакивали свою утраченную веру. Всю жизнь веровали свято в товарища Сталина, повинуясь этой вере, совершали всякие подлые поступки, одни чаще, другие реже, а вера сегодня рухнула. Сегодня им сказали в лицо, что они – обманутое стадо. Как же им не плакать?
Измученная бурными чувствами и смутными мыслями, сбитая с толку и слабая, явилась я к Анне Андреевне. Придя, поняла, что не надо бы мне сегодня вываливать ей на голову все мои недоумения и тревоги… Сегодня она светла и радостна: Левино дело, судя по обращению прокуратуры с Эммой Григорьевной, будет вот-вот решено… Но я не могла удержаться, да она и сама сразу же стала расспрашивать меня о письме Хрущева.
Она слушала, не перебивая. Когда я сказала, что женщины плакали, у нее гневно дрогнули ноздри, но ни слова. Потом, прежде чем я, кончив, задала ей свои вопросы, она сама предложила мне один:
– Вот, прослушали вы письмо от начала и до конца, скажите, нашлось ли для вас в нем что-нибудь новое? Какие-нибудь факты или обстоятельства, проливающие новый свет? Я нарочно спрашиваю об этом именно вас, потому что вы и раньше не обольщались.
Я подумала. Узнала ли я что-нибудь новое? Существует магия открытого слова. Знать про себя, среди молчания, всеобщего и своего, и вдруг услышать громко высказанным то, о чем молчишь, – это ошеломляет уже само по себе. Я думаю, от выговоренных впервые или услышанных впервые долгожданных слов у людей меняется состав крови… Но Анна Андреевна спросила проще: узнала ли я из этого доклада что-нибудь принципиально и фактически новое, до сих пор неизвестное мне?
Да, узнала.
Новостью, и весьма существенной, оказалась для меня одна сталинская телеграмма. Я помню, лет восемнадцать-девятнадцать назад, в Ленинграде, в узком кругу, мы задавали друг другу вопрос: каким способом Сталин показывает своим соратникам, что на следствии можно и должно пытать арестованных? Усом помаргивает? Не мог же он так прямо и говорить: поджарьте Рыкова на сковороде, а Бухарина сварите живьем? Как же они вообще на эти темы объяснялись между собой: знаками? усмешками? щелканьем пальцев? бровями? Мы, конечно, понимали, что все эти обывательские разговоры: "Сталин не знает, безобразия творятся его именем без его ведома" – чепуха, вздор, малоумье ("царь батюшка не ведает, министры виноваты"), понимали, что он – автор пыточной системы, но, мы думали, скрытый. Лицемерный. Не мог же он так прямо и брякать! Ведь "советская власть не мстит", ведь "советский строй – самый гуманный в мире", ведь "гестапо" бранное слово… Оказалось, отлично мог, так и говорил – не подмигиваньем, а словами, попросту и без затей, и вот эта откровенность и оказалась новизной для меня. Какой-то наивный провинциальный обком – в 38-м, кажется, году, запросил Сталина, допустимо ли в советских следственных органах "применение физических методов воздействия".
Сталин ответил, что да, допустимо, безусловно, и мы были бы плохие марксисты, если бы избегали их.
– Для вас это ново? Что он был прям? Для меня нисколько! – сказала Анна Андреевна. – Кого же ему было стесняться? Мне даже кажется, я эту телеграмму собственными глазами читала. Вот именно: подлинная наука требует… Быть может, читала во сне. Жаль, в те годы мы не записывали своих снов. Это был бы богатейший материал для истории.
Я подумала, что мы и явь-то описали едва-едва, одну миллионную, какой-то краешек яви – и действительность "корчится безъязыкая", "ей нечем кричать и разговаривать". И тоже, надо признаться, материал богатейший.
Я попыталась задать Анне Андреевне неотвязный вопрос: отчего все теперешние радости пропитаны для меня отравой? Даю честное слово: не от того, что другие вернутся, а Митя нет. Честное слово.
– Отчего? – Анна Андреевна серьезно поглядела мне в лицо: пойму ли? – От того, что бессознательно, того не ведая сами, вы хотите, чтобы этих лет будто и не было, а они были. Их нельзя стереть. Время не стоит, оно движется. Арестованных можно из лагерей воротить домой, но ни вас, ни их нельзя воротить в тот день, когда вас разлучили. Этот день для них и для вас был ужасен, но он был днем вашей жизни, и вы хотите, чтобы не только люди, но и день вернулся, и чтобы жизнь, насильно прерванная, благополучно началась с того самого места, где ее прервали. Склеилась там, где ее разрубили топором. Но так не бывает. Нет такого клея. Категория времени вообще гораздо сложнее, чем категория пространства. Справедливость, которая торжествует через семнадцать лет, это уже не та справедливость, которой ваше сердце жаждало тогда. Да и сердце ваше не то… А про Камира и про систему, что она прежняя… Конечно, прежняя… Откуда же взяться другой? – Анна Андреевна опять серьезно и даже как-то с укором посмотрела на меня. – Давайте я вам лучше стихи почитаю. Сорокового года. Марине Ивановне. В них целое четверостишие посерединке я написала заново.
Скорбно подняв брови, скорбным глубоким голосом она прочитала мне стихотворение, обращенное к Цветаевой. "Невидимка, двойник, пересмешник". Я запомнила только четыре строки:
…То кричишь из Маринкиной башни:
"Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной…"
Дальше – дивный переход к самой концовке.
– Ей я не решилась прочесть, – сказала Анна Андреевна. – А теперь жалею. Она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ, хоть и через десятилетия. Но я не решилась из-за страшной строки о любимых.
Нас позвали ужинать. В столовой Нина Антоновна оканчивала беседу с молодым человеком, по-видимому, актером, ее учеником, а Миша хозяйничал. Анна Андреевна села на свое обычное место – на диван – и усадила рядом меня, погрозив пальцем Лапе, которая ворчала из-под дивана. Миша подал Анне Андреевне какую-то особую еду, но вино она пила вместе со всеми. Часто наклонялась к моему уху и тихонько шептала что-нибудь посреди общего разговора. Один раз так:
– Правда ведь, за 800 рублей можно купить хороший мужской костюм?
Это она уже готовится к Левиному возвращению…
Речью Хрущева он спасен, как и другие, "от тысячи тысяч смертей".
А я еще смею рассуждать, копаться в себе, быть печальной! »
|
|
</> |

 Вулкан 24 казино: комплексный анализ игровой платформы, финансовых аспектов и потенциальных рисков
Вулкан 24 казино: комплексный анализ игровой платформы, финансовых аспектов и потенциальных рисков  День в истории. Как люди увидели невидимую сторону Луны
День в истории. Как люди увидели невидимую сторону Луны  Автомагистрали в Иране? Да ну нафиг...
Автомагистрали в Иране? Да ну нафиг...  Жёлтый цвет царит в природе
Жёлтый цвет царит в природе  День победы русских полков в Куликовской битве
День победы русских полков в Куликовской битве  Бодипозитив по-канарски
Бодипозитив по-канарски  День рождения Сабины Ахмедовой.
День рождения Сабины Ахмедовой. 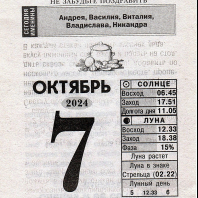 Я в триместровой школе был двоечником
Я в триместровой школе был двоечником  Красота
Красота 



