
Комната с видом
 enchantee_x — 11.03.2011
Это грустная, очень грустная сказка, поэтому не спешите ее читать,
если вы не любите грустные сказки.
enchantee_x — 11.03.2011
Это грустная, очень грустная сказка, поэтому не спешите ее читать,
если вы не любите грустные сказки.
Andrew Wyeth, Wind from the Sea, 1947
Натале, если она меня помнит
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, моя мать пришла в часовню Святой Девы, сжимая в кулаке блестящую монету. Она могла бы понести ее на рынок и купить мне подарок: кулон из фальшивого серебра или книгу у букиниста, но предпочла потратить монету на толстую восковую свечу, самую дорогую из тех, что лежали в свечной коробке и на пожертвование для бедных. Свечу она водрузила прямо перед статуей Святой Девы и строго попросила послать мне мужа. Может быть Дева была занята в тот день, может она гуляла в райских кущах со Святым Иосифом, или просто не любила, когда ей тычут в лицо восковыми свечами, так или иначе, она не услышала мою мать. Через четырнадцать лет крыша церкви прохудилась настолько, что не только хористам, но и деревянным святым раздали в руки зонтики, кюре назвал это святотатством и пригрозил мэру и прочим прихожанам небесными карами, если те срочно не найдут выход из положения. Прихожане предложили кюре особенно щедрые пожертвования, церковь окружили стропилами, старую черепицу сняли и небесному взору предстало поношеное внутреннее убранство: пыльные люстры, свисающие с тяжелых деревянных балок, полустертая позолота алтаря, разляписто нарисованые станции креста, ряды ex-voto, на которых можно было прочитать имена всех семей нашего города и две темные, пропахшие воском и ладаном часовни – Святой Девы и Святого Христофора. Может быть, на одном из подсвечников в часовне Святой Девы сохранился огрызок свечи, зажженной моей матерью в день моего шестнадцатилетия, ибо Девственница обо мне вспомнила и весьма странным образом.
Она послала мне не мужа, но ребенка и светлую комнату с окном на юг. Ребенок оказался тихим мальчиком с головой белокурого ангела, он много спал, никогда не плакал и улыбался такой светлой улыбкой, совсем не похожей на мою, что я засомневалась, не нашла ли я его прямо в этой комнате, агукающим в своей колыбели. Или его мне подбросили феи в ту самую минуту, когда хозяйка, гремя ключами, открыла дверь и помогла мне перенести тяжеленный чемодан через высокий порог. Мой ребенок больше похож на эту комнату – светлую, пыльную, тихую, без единого запаха, комнату с белыми занавесками и видом на море.
С видом на море. В нашем городе нет моря, нет его и в соседнем и на двадцать миль в округе, а дальше я не добиралась. Но его видно из окна моей комнаты – сначала крыши, потом полоску темных сосен и сразу за ней – синюю гладь, а дальше острова. Иногда ветер доносит до меня запах соли и грустные крики чаек. Я спросила у хозяйки, как получилось, что из моего окна видно море, она пожала плечами и спросила в ответ, не донимают ли меня соседские кошки, каждую ночь празднующие на крыше свои кошачьи свадьбы. Я хотела спросить у ребенка, но но все еще в том возрасте, когда люди умеют только спать, улыбаться и пить молоко. У него нет имени. Если бы я была точно уверена, что это мой ребенок, я назвала бы его Альфонсом, как моего дедушку, или Адрианом. Но я все еще сомневаюсь. Может быть ребенка мне подарили феи. Может быть он прилагается к комнате, к белым занавескам и виду на море. Я никому ничего не говорю о своих сомнениях. Зачастую я остаюсь в комнате на целый день, запираюсь на два поворота ключа, придвигаю колыбель со спящим мальчиком поближе к окну и пишу.
У всех домов в нашем городе до смешного высокие пороги – по щиколотку, а то и выше. Это из-за суеверий. Говорят, что в давние времена сюда заходили заблудившиеся русалки и домовые. Точь-в-точь похожие на людей, только лица у них были всегда грустными, а в глазах были как будто не зрачки, а мутное темное облако. Женщины-русалки иногда даже выходили замуж за обычных мужчин, конечно, обманом, потому что кто же станет добровольно жениться на русалке, да еще и венчаться с ней в церкви. Там, где священник был грамотным и радивым, такой фокус не проходил – что стоит проверить в церковных книгах, когда крестили такую-то и кто родители. В замужестве русалка оказывалась отвратительной хозяйкой: пол не мыла, печь не топила, мужа не кормила, детей рожала хилых и хоронила их вскоре после рождения. Дни напролет сидела у окна и смотрела вдаль, а в одно прекрасное утро исчезала бесследно. Утро так и было бы прекрасным и никто в округе о ней не пожалел бы – скатертью дорога, но бедняга муж с того самого утра терял аппетит и сон, по вечерам пил крепкий ром и, помаявшись так несколько месяцев, а то и год, заколачивал дом и отправлялся куда глаза глядят.
За домовыми особо дурной славы не водилось. В человеческие дела они не вмешивались, от девушек держались подальше, пропадали и появлялись по своему усмотрению. Говорили, что если позвать домового на крестины девочки, то будет в семье любовь, а если мальчика – то богатство. Хозяйки, готовясь к празднику, предусмотрительно ставили на стол лишнюю тарелку и бокал вина, но и с детей глаз не спускали, мало ли что. А потом кто-то распустил слух, что если смастерить в доме высокий порог, такой, что женщине надо юбку поднять, чтобы переступить, и смотреть под ноги, чтобы каблуком не зацепиться, то не войдут туда ни домовой ни русалка. И все, кто поверил, и на всякий случай те, кто не поверил, взялись настраивать и прибивать на входе высоченные пороги. Даже мода началась. Некоторые так расстарались, что сами к себе в дом через окно лезли – так удобнее. Как знать, может быть домовых и русалок в наших краях и сроду не водилось, но с той поры слухи о них умерли окончательно. Я думаю, что они не из-за порогов ушли, а обиделись, увидев, как рьяно люди от них защищаются. А может быть у них была другая причина.
Как бы рано я не проснулась, моя комната уже наполнена желтым светом и за окном синева. Я тихо встаю с кровати, пыль поднимается облаком из-под моих ног и щекочет мне нос. Я достаю ребенка из колыбели, прижимаю его к груди и качаю, расхаживая от окна к двери и обратно, оставляя следы босых ступней на пыльных досках. Сколько бы я не выметала эту пыль, три, пять, сотню раз на день, сколько не окропляла бы водой из садовой лейки, она возвращается. Против пыли не помогает до смешного высокий порог. Я покидаю комнату только в рыночный день, купить молока ребенку, фруктов или семян, чтобы рассадить их в горшки, которыми я заставила весь подоконник, или сходить на почту – там я заклеиваю мои рукописи в серые конверты и рассылаю издателям. Я даже волосы стригу себе сама, хотя боюсь порезаться. Раз в неделю в дверь стучится хозяйка и протягивает мне через порог кусок пирога, иногда чуть-чуть подгорелый. Я принимаю пирог с благодарностью, половину съедаю с чаем, а другую раскрашиваю на подоконнике в надежде заманить к себе настоящую чайку. Мой ребенок, Адриан или Альфонс, Гаэтан или Габриэль, улыбается и машет в восторге пухлыми ручками, наблюдая за моими манипуляциями.
Когда он постучал в дверь, я без колебания отворила. Я даже знала заранее, что он придет, как будто специально для этого поселилась в пыльной комнате с видом на море и писала сказки, устроившись на трехногом стуле, приставленом к столу и качая босой ногой колыбель. Я как раз посадила в горшки лаванду, пурпурный базилик и абсент и подмела пыль – мне не стыдно было принять гостя. У него были зрачки – не острые черные точки, а размытые темно-синие кляксы на голубом фоне и ростом он был выше меня, но я все равно подала ему руку и помогла переступить через порог – мало ли что говорят старые суеверия. Я думаю, что он бывал в моей комнате раньше, я нисколько не сомневаюсь. Он оглядывался по сторонам, словно искал какие-то следы и мне стало досадно, что я не додумалась раньше разломать доски пола, может я нашла бы там клад, принадлежавший ему или кому-нибудь до него. Он подошел к колыбели и взял ребенка на руки, а потом посмотрел на меня в упор, как будто искал сходства. Я не люблю, когда на меня так смотрят: словно знают про меня что-то, чего еще не знаю я. Но я не за этим его ждала. Я взяла его за руку, хотя еще за мгновение до этого сомневалась, смогу ли я взять его за руку и какая она наощупь, его рука, холодная, теплая, гладкая как воск или сухая, как бумага. Я взяла его за руку и подвела к окну. Старые россказни удивительно много рассказывают о русалках и ничтожно мало – о домовых. Умеют ли они читать человеческие мысли? Едят ли они снедь, которую хозяйки оставляют для них на столах, или отдают птицам? Рождаются ли у них дети? Умирают ли они? А если да, то суждено ли им воскреснуть? Его рука была мягкой и прохладной наощупь, почти человеческой.
Он опередил меня с вопросом: «Как зовут твоего ребенка?» Я растерялась. Мне казалось неправильным вот так по собственной воле давать имя ребенку, ни с кем не посоветовавшись. Я перебрала в уме имена мертвых и здравствующих родственников и почитаемых святых. Есть ли еще имена, имена, о которых я не знаю, одно из которых подошло бы ребенку с голубыми глазами, который никогда не плачет и часто улыбается? Вместо ответа я распахнула окно и указала пальцем вдаль. «Почему я вижу море?» - спросила я его. И тут же испугалась. Нужно было спросить по-другому. «Почему из этого окна видно море?» Или «Откуда в нашем городе море?» или «Что это за море?» Старые россказни говорят, что люди, запутавшись, просили совета у домового, но ни одна не уточняет, требовал ли домовой платы за свой ответ.
В давние времена человеческая подозрительность дошла до того, что любую, хоть сколь нибудь нерадивую хозяйку или бездарную кухарку немедленно клеймили русалкой. Смотрели на нее с опаской и не садились на одну скамью в церкви. Так в нашей церкви появилась «скамья русалок». Настоящих русалок на ней сиживало мало, были белоручки и маменькины дочки, и неуклюжие сельские девицы, которые с детства ели только кислую капусту и не знали как подступиться к белой муке. Туда же садили всех приезжих и захожих девушек, пока не выяснят их родословную. «Русалки» со временем привыкали не поднимать глаз, сносить все молча, на рынок приходить к самому концу, руками ни овощи ни рыбу не трогать, говорили, что овощи от этого гниют, а рыба тухнет, а брать то, что торговцы им оставили с края прилавка, жаловаться только шепотом, мужу и за закрытыми дверями. Даже рожали они молча, в одиночестве – акушерки «русалочьих детей» боялись как огня. А русалочьи дети ничем не отличались от человеческих: рождались такими же красными, сморщеными и крикливыми и так же плакали и тянулись к груди. Это потом они привыкали к тишине в доме и к тому, что в гости никто не заходит – ни дед, ни тетка, ни господин кюре. У нас верят, или раньше верили, что если умирает ребенок, то в церкви и в доме надо зажечь все свечи – со свечным теплом и запахом воска душа ребенка поднимается прямо в объятия святого Петра или самой Девы. За русалочьих детей свечей не зажигали. Говорили, что русалки собирают их души в котомки и несут к морю. Далеко несут, сначала идут пешком, пока не сотрутся ботинки, потом идут босиком, пока не собьют ноги о камни. Говорили, что русалочьи мужья разыскивают своих ушедших жен по этим кровавым следам. Дальше разное говорили. Одни – что русалки ждут своих мужей в хижинах на берегу моря и там учат их ловить рыбу и чинить сети и рожают им еще детей – крепких и шумных. Другие – что русалочьи мужья сидят на пляже, дожидаясь заката, а ночью, когда на воде заблестит лунная дорожка, уходят по ней искать своих суженых.
А потом кто-то решил построить у нас в городе дом, высокий дом, выше церковной колокольни. И чтобы из окна комнаты под крышей обязательно было видно море. Он подумал, что русалкам всего-то и надо будет подняться по винтовой лестнице на последний этаж, распахнуть окно с белыми занавесками – и души русалочьих детей выпорхнут и улетят с попутным ветром к морю – прямо в объятия святого Андрея-рыбака и святого Николая, защитника детей и мореходов.
Я назвала ребенка Кристоф – в честь святого, который на плечах переносит через глубокую воду скитающихся и потерянных. Мой ребенок часто улыбается и никогда не плачет. Священник отказался было его крестить, не зная имени отца, но я настояла, призвав Святую Деву в свидетели. Когда Кристоф начал говорить, я поехала в соседний город и купила глубокое кресло-качалку для себя и деревянную лошадку – ему на вырост. Когда нам становится грустно, мы устраиваемся у окна – он еще в колыбели, я – в своем кресле, и качаемся, глядя на море.
Вера Ковалева, Hyères, 28 февраля 2011
|
|
</> |

 Наплавляемая кровля: цена за работу и итоговая смета
Наплавляемая кровля: цена за работу и итоговая смета  Почему все время Россия должна оплачивать "банкет"?
Почему все время Россия должна оплачивать "банкет"?  Война закончилась, господа! Всем спасибо! Антракт!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! Антракт! 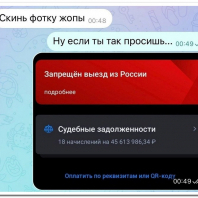 Забавные комментарии из социальных сетей (23.06.25)
Забавные комментарии из социальных сетей (23.06.25)  Какой злой мальчик
Какой злой мальчик  Пьем хорошее кьянти и привыкаем к умеренности
Пьем хорошее кьянти и привыкаем к умеренности  "Деревенский театр теней"
"Деревенский театр теней"  Барон хороший человек, но...
Барон хороший человек, но...  Не битая, не крашеная
Не битая, не крашеная 


