Как и почему исчезли Жигулёвские разбойники
 honzales — 25.09.2025
honzales — 25.09.2025
Подъ Самарою разбойнички шалятъ...
Более пяти лет назад я писал о знаменитом кличе "Сарынь на кичку!", которым волжская вольница буквально парализовывала волю к сопротивлению экипажей купеческих кораблей, проплывавших по Волге мимо Жигулей во времена оно.

Картина самарского художника Андрея Березина "Сарынь на Кичку". х,м, 90х150см, © Березин Андрей Евгеньевич, Самара, 2013г [1]
Сегодня же я хочу рассказать вам о самих волжских разбойниках - о том, почему возникла "Жигулёвская вольница", и когда и как она прекратила своё существование - а ведь случилось это всего около 177 лет назад...
Поможет нам в исследовании истории волжских разбойников краеведческий очерк А.С. Размадзе "Волга", изданный С.В.Кульженко в Киеве в 1896 году [2].
На с. 87 этого издания [2] Александр Соломонович [3] пишет:
Немного выше Ставрополя, недалеко отъ села Усолья, тамъ, гдѣ Волга поворачиваеть влѣво, начиная образовывать, такъ называемую, Самарскую луку, на правомъ берегу возвышается бугоръ, извѣстный подъ именемъ Караульнаго бугра; именно отсюда начинаются знаменитыя на всю Волгу и извѣстныя далеко за ея предѣлами Жегулевскiя горы, въ общежитiи называемыя просто „Жегули“.
Относительно этого названiя существуютъ два мнѣнiя: одни принимають его, какъ сказано выше, въ видѣ „Жегули“, друме же называютъ горы — „Жигулями“.
Мы будемъ придерживаться перваго правописания, такъ какъ находимъ, что происхожденiе названiя Жегулей всего правдоподобнее въ томъ видѣ, къ разъясняютъ его г. Монастырскiй и отчасти г. Демьяновъ.
Дѣло въ томъ, что въ тѣ блаженныя времена, въ которыя сложилась извѣстная пѣсня:
Волга-рѣченька бурлива, говорятъ,
Подъ Самарою разбойнички шалятъ...
„Разбойнички“ дѣйствительно сильнѣе всего „шалили“ именно въ районѣ Жегулей.
Говорятъ, что попадавшихъ въ ихъ руки проѣзжающихъ разбойники поджаривали, допытывались у нихъ денегъ, причемъ расправу эту устраивали такъ: жертву раздѣвали до нага и сѣкли заложенными вѣниками до тѣхъ поръ, пока не могли добиться отъ нея, гдѣ спрятаны деньги и всякое добро; операцiя эта называлась „жечь на вѣникахъ“. Весьма естественно послѣ этого признавать названiе мѣстности въ видѣ „Жегулей“ отъ слова „жечь“, вопреки существующему въ Самарѣ и ближайшемъ районѣ обыкновенно признавать его въ видѣ „Жигулей“.
Отступление для тех, кто никогда не бывал в наших краях - карта 1820 года [4] из "Географического атласа Российской Империи В.П. Пядышева" наглядно демонстрирует Самарскую Луку - как бы полуостров, образованный огибающей с трех сторон Жигули Волгою, а с четвертой - рекой Уса, которая в районе деревни Переволоки (на карте не показана, ибо не имела церкви), расположенной между селами Печерское и Рязань, приближается к Волге на расстояние около трех километров, что делает возможным переволакивать суда из Волги в Усу, и тем самым всё время плыть по течению (по часовой стрелке):

Поскольку барки с грузом волокли с низовьев Волги бечевой вверх по течению бурлаки, разбойники имели возможность, выбрав себе будущую жертву в районе Переволок, встретить судно выше по течению, во окрестностях Ставрополя, просто перетащив свои суда в Усу.
Но продолжим - на иллюстрации из книги Размадзе один из Жигулёвских ут ёсов, дающих прекрасный обзор на многие километры вдоль Волги - гора Лепешка при впадении Усы в Волгу (в книге опечатка):

Далее, на с.89-92 той же книги, читаем:
Жизни въ горахъ сравнительно мало; на всемъ 90-веретномъ протяженiи имѣются какie-нибудь четыре-пять поселковъ, которые, конечно, не въ состоянiи оживить величественную и нѣсколько суровую красоту Жегулей. Да въ сущности и селиться то здѣеь было бы не легко: горы такъ круто обрываются къ Волгѣ, что только кое-гдѣ выдается внизу узкая береговая полоса, да и та, разумѣется, заливается въ половодье водой. На западной сторонѣ луки протекаетъ рѣчка Уса; у села Переволоки она очень близко подходить къ Волгѣ, отъ которой отдѣляется всего трехверстнымъ пространствомъ; въ этомъ то мѣcтѣ, во время оно, разбойники переволакивали свои ладьи съ Волги на Усу (отсюда названiе села), а на противоположномъ концѣ луки снова спускали ихъ въ Волгу; такимъ образомъ Самара оставалась въ сторонѣ, но купеческiя суда, благополучно миновавшiя Переволоку и Самару, подвергались неожиданному нападению разбойниковъ уже близъ Ставрополя.
Интересныя своей картинностью, Жегули замѣчательны и въ историческомъ отношенши. Если принять во вниманiе, что въ прежнiя времена здѣшнiе лѣса были непроходимы, дорогъ здѣсь не существовало, населенiе сплошь состояло изъ разбойниковъ и бродягъ, то станетъ ясно, почему Жегули въ прежнiя времена внушали такъ много страха и почему о нихъ сложилось такъ много удивительных легендъ и разсказовъ. Сама природа, создавая Жегули, словно задалась намѣренiемъ создать именно первоклассное разбойничье гнѣздо. Начиная съ XVI вѣка, на всемъ протяженiи Волги не было мѣста страшнѣе Жегулей.
Всѣ наиболѣе выдающиеся атаманы волжскихъ разбойниковъ побывали въ Жегуляхъ. Здѣсь каждый бугоръ, каждое ущелье, каждая пещера, связаны по воспоминанiямъ съ именами такихъ героевъ, какъ Стенька Разинъ, Ѳедька Шелудякъ, Заметаевъ, Булавинъ и другiе. Разгуливалъ здѣсь въ свое время и покоритель Сибири Ермакъ Тимоѳеевичъ; побывалъ и сподвижникъ его Иванъ Кольцо; даже понынѣ существуютъ двѣ деревни, изъ которыхъ одна называется Ермаково, а другая Кольцовка.
Жегули были по истинѣ обѣтованной землей для разбойниковъ: съ одной стороны рѣка Уса служила прекраснымъ путемъ и средствомъ для переволакиванiя лодокъ и внезапнаго появленiя тамъ, гдѣ ихъ менѣе всего ожидали; съ другой стороны вершины Жегулей представляли собой прекрасные пункты для обзора окрестностей на большое разстояне. Всегда было возможно устроить незамѣтный для глазъ сторожевой постъ, съ котораго виднѣлись идущия вдали суда; стоило лишь спуститься съ возвышенности, спрятаться въ густой поросли низины, отвязать тамъ свои ладьи и поджидать появленiя медленно ползущей барки, которую тянули бичевой измученные бурлаки. Раздавался столь известный на Волгѣ крикъ „сарынь на кичку“ и дѣйствiе его имѣло въ себѣ что-то магическое; на берегу моментально ложились бурлаки на землю, а на суднѣ, на носовой части его, моментально ложились на палубу судорабоче. Среди мертвой тишины хозяинъ судна вручалъ деньги старшему рабочему для передачи разбойникамъ, а самъ спускался въ каюту и со страха отбивалъ тамъ земные поклоны передъ образомъ. Совершенно покойно, внѣ всякой мысли о какомъ бы то ни было сопротивленiи, разбойники собирались на палубу, получали деньги отъ старшаго рабочаго и брали вообще то, что имъ понравилось; при этомъ хозяинъ обрѣтался по прежнему въ каютѣ, а судорабочiе неподвижно лежали на палубѣ: извѣетно было, что стоило кому-либо пошевелиться, чтобъ быть убитымъ, и что сопротивление влекло за собой поголовное избiенiе всѣхъ, разграбленiе всего добра и потопленiе судна.
Судорабочiе, конечно, всегда симпатизировали гораздо болѣе разбойникамъ, чѣмъ своимъ хозяевамъ, а что касается бурлаковъ, то они весьма часто дѣйствовали прямо таки за одно съ разбойниками, бывшими ихъ вѣрными заступниками во многихъ случаяхъ. Дѣло въ томъ, что если бурлаки бывали обсчитаны, или вообще обижены судохозяиномъ, то жаловаться они шли не къ рѣчной администраи и вообще не къ мѣстнымъ властямъ, а къ разбойникамъ; у послѣднихъ они находили болѣе симпатичный имъ судъ надъ хозяиномъ-обидчикомъ; въ обыкновенныхъ судахъ имъ предстояла бы обычная въ тѣ времена волокита; и сильный богатый хозяинъ всегда тамъ выходилъ сухъ изъ воды, а судъ жегулевскихъ молодцовъ былъ кратокъ и удобенъ для бурлаковъ: виновнаго судохозяина, или приказчика, если не убивали, то по малой мѣрѣ драли на палубѣ жесточайшимъ образомъ при хохотѣ бурлаковъ-жалобщиковъ.
Очень многiе судохозяева, желая задобрить своихъ рабочихъ и бурлаковъ заблаговременно, еще задолго до Жегулей начинали щедро угощать ихъ водкой и кормить до отвала; всякiй зналъ, что малѣйшая жалоба бурлаковъ, принесенная жегулевскимъ молодцамъ, можеть принести весьма печальные для него результаты, а поэтому иной судохозяинъ, бывший истиннымъ аспидомъ на всемъ протяженiи нижняго плёсса, дѣлался отцомъ и благодѣтелемъ своихъ рабочихъ уже верстъ за 200 до Жегулей. Если случалось на пути, что съ ползущаго по Волгь судна виднѣлось, какъ грабили другое судно, остановленное разбойниками, ни о какомъ податiи помощи не могло быть рѣчи; этого не сдѣлалъ бы ни одинъ судохозяинъ со страха (всякому своя рубашка ближе къ тѣлу) и не допустили-бы никакiе судорабочие и бурлаки; всякъ въ этихъ случаяхъ разсуждалъ такъ: „его грабятъ, а мнѣ то что-жъ изъ того? Лишь-бы мнѣ-то проскользнуть какъ-нибудь!“
Крестьянство, заселявшее Самарскую луку, относилось къ разбойникамъ часто безразлично, а въ большинствѣ случаевъ сочувственно. Въ общемъ все оно поголовно боялось гнѣва жегулевскихъ удальцовъ, гнѣва, могшаго всегда пустить на вѣтеръ и дома, и все имущество крестьянъ. Поэтому, когда правительство принимало энергичныя мѣры для искорененiя разбоевъ и обѣщало большия денежныя награды за поимку разбойниковъ, отъ мѣстныхъ крестьянъ оно почти не видѣло помощи. Оно и понятно! Какая выгода была бы крестьянамъ той или другой деревни, хотя бы за большую награду, выдать правительству мирно разгуливавшихъ по деревнѣ разбойниковъ, если всякiй крестьянинъ зналъ навѣрное, что никакое начальство не спасетъ затѣмъ деревни отъ совершеннаго сожженiя ея до тла. Всякiй зналъ, что за выданными и пойманными десятью разбойниками стояла сотня разгуливающихъ на свободѣ молодцовъ, способныхъ отмстить за своихъ товарищей.
Весьма естественно поэтому, что властямъ приходилось считаться и вѣдаться съ разбойниками единственно только при посредствѣ посланныхъ противъ нихъ отрядовъ; между этими отрядами и жегулевской вольницей происходили порой цѣлыя сраженiя, далеко не всегда оканчивавшiяся въ пользу правительственныхъ солдат.
Такъ шло дѣло до начала нынѣшняго столѣтiя. Указомъ 21 октября 1829 года былъ сформированъ полубаталонъ военно-рабочей команды; этому полубатальону, преобразованному черезъ 9 лѣтъ въ гаршкоутный экипажъ, была поручена охрана судовъ, плавающихъ по Волгѣ. Экипажъ состоялъ изъ 300 человѣкъ, дѣлился на 3 эскадры, располагалъ 28 шлюпками, вооруженными пушками, и состоялъ въ вѣдомствѣ Путей Сообщенiя.
Но, увы, цѣли своего назначенiя экипажъ достигалъ очень мало, „непорядковъ“ же отъ него возникло очень много; въ концѣ концовъ экипажъ сдѣлалея въ глазахъ судохозяевъ гораздо страшнѣе разбойниковъ; послѣдн!е брали только дань и, получивъ ее, оставляли человѣка въ покоѣ, а экипажъ тоже бралъ дань, отъ разбойниковъ защитить не могъ и не оставлялъ въ покоѣ судохозяина, постоянно требуя отъ него паспортовъ всѣхъ рабочихь и бурлаковъ. Весьма естественно, что предъявить такiе паспорта было тѣмъ болѣе невозможно, что въ большинствѣ случаевъ ихъ не оказывалось въ природѣ, такъ какъ большинство бурлаковь и рабочихъ набиралось изъ бездомныхъ бродягъ и разной невѣдомой, безпаспортной голытьбы. Между тѣмъ, разъ что судохозяинъ не предъявилъ веѣхъ требуемыхь паспортовъ, начиналось невѣроятное взяточничество, тасканье по судамъ, перевѣдыванье съ полищей и прочее.
Очень часто экипажъ, разгуливая мимо Жегулей подъ предлогомъ охраны плывущихъ судовъ, высаживалея гдѣ-нибудь по близости поселенiя и добиралея до ближайшато кабака; тамъ начиналось невѣроятное пьянство, самый безобразный разгулъ, и нерѣдко бывало такъ, что пьяная команда, водворившись на своихъ шлюпкахъ въ состаянiи, граничащемъ съ безпамятствомъ, начинала ни съ того, ни съ сего палить изъ пушекъ, отнюдь не соображая въ кого и чего ради направляется эта пальба.
Сухопутная земская полиция во всѣхъ отношенiяхъ была полезнѣе для дѣла и дѣйствовала противъ разбойниковъ много успѣшнѣе. Она устраивала на нихъ цѣлыя облавы и весьма часто достигала такихъ результатовъ, о которыхъ и не снилось гаршкоутному экипажу. Собственно прекращенiе разбоевъ у Жегулей началось съ развитiемъ пароходотва, т. е. примѣрно съ 1845 года; но, однако, въ 1847 году было еще ограблено 9 судовъ. Конечно, и это было нѣчто, но въ сравненiи съ прежнимъ, оно было совершенное ничто. Годъ спустя удалось разорить самыя гнѣзда разбойниковъ и тогда наступила такая тишина, что за цѣлый навигацiонный перiодъ не было ни одного случая ограбленiя судовъ, „чему“, какъ говорится въ оффицiальномъ отчетѣ за этотъ годъ, „дотолѣ не было примѣра“. Разбойничьи шайки были искоренены, а разбѣжавшiеся одиночки-разбойники выродились въ мелкихъ воровъ и бѣглыхъ безпаспортныхь бродягъ. Мѣстное крестьянство, мирволившее въ прежнее время разбойничьимъ шайкамъ, отнюдь не было склонно мирволить отдѣльнымъ ворамъ и бродягамъ; достигшее къ половинѣ нынѣшняго столѣтiя значительнаго благосостоянiя, оно тѣмъ болѣе охотно принимало дѣятельное участе въ поимкѣ бѣглыхъ и воровъ. Со времени уничтоженя крѣпостного права и самому контингенту бѣглыхъ уже некѣмъ было пополняться, и потому жегулевскiе разбои и грабежи отошли въ это время въ область преданiй и плыть хотя бы одному въ лодкѣ вдоль Жегулей въ настоящее время такъ же безопасно, какъ учинить большую прогулку solo по Жегулевскимъ лѣсамъ.
Вот и выходит, что первым безопасным годом на Самарской Луке стал 1848...

Источники:
1. "Сарынь на Кичку". х,м, 90х150см, Березин Андрей Евгеньевич, Самара, 2013г
2. Размадзе, Александр Соломонович. Волга [от Нижнего Новгорода до Астрахани] : очерк / А. С. Размадзе. - [Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1896]. - 162 с., 19 л. ил., 1 л. к.; с. 87, 89-92
3. Размадзе (Александр Соломонович, 1845—96)/ Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. т. XXVI (1899)
4. Географический атлас Российской Империи В.П. Пядышева.



 Цель МСКТ брахиоцефальных артерий
Цель МСКТ брахиоцефальных артерий  Если бы я мог представить себя богом, я бы стал им!
Если бы я мог представить себя богом, я бы стал им!  Лучшее время для моря
Лучшее время для моря  Преимущества активированного угля
Преимущества активированного угля  Сколь веревочка ни вейся...
Сколь веревочка ни вейся...  Не исключено
Не исключено  Складные лопаты Э-6
Складные лопаты Э-6 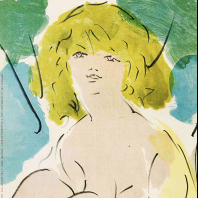 Обложки журнала «Graphis» 1950-х
Обложки журнала «Graphis» 1950-х 



