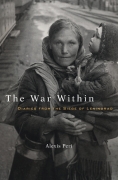
Дневники апокалиптян.
 sogenteblx — 19.01.2017
sogenteblx — 19.01.2017
Необычным предисловием к истории с этой книгой может служить заблаговременная реакция российской стороны. Итак, в январе 2017 года издательство Гарвардского университета опубликовало книгу профессора Алексис Пери. Госпожа профессор, используя личные источники блокадников, написала работу в жанре «история повседневности». Как уже понятно, получившаяся картина радикально отличается от лакированных рассказов. Вторая мировая война была глобальной катастрофой, германо-советский фронт — её режущим краем, блокадный Ленинград — одним из самых мрачных его мест. Кто ожидал иного?
Кто-то и ожидал. В конце декабря 2016 года в The Guardian появилась статья госпожи Пери, в целом обрисовывающая одну из идей книги, т.е. показывающая лицо повседневной жизни блокадников, через их же слова. В России тут же последовала реакция организации «Жители Блокадного Ленинграда», а затем одиозный депутат разразился тирадой и выражениями про «грязное либеральное мировоззрение», «европейскую псевдокультуру» и «либеральные нечистоты». Сказал, что будут стараться публикацию Гарварда запретить. За исключением одного русского специалиста по блокаде, книгу, конечно, никто и не читал, а его голос и услышан не был.
Так что книжку я купил: новинка нужная, социалка — интересное мне, да и почти уверен, что из русскоязычных мало кто это читает, и даже меньше тех, кто что-то захочет написать.
Начать можно с того, что автор очень аккуратно относится к теме, да и вообще, можно быть благодарным, что человек занят историей чужих ему людей и чужой страны, потратил время, ресурсы, нервные силы. Заранее можно сказать, что содержание там местами для людей подготовленных. И надо было иметь достаточно частного горения, чтобы кидаться в подобную тему и годами её рыть. Такой «фотоальбом» в голове остаётся...
Безусловно, она не отрицает неровностей и частности этих источников. База мощная: 125 (сто двадцать пять!) дневников. Репрезентативно ли? Вполне. Но даже и здесь автор признаёт, что это взгляд лишь 125 человек из 2 миллионов, что были в городе. Однако у этих 125, несмотря на их разность (положения, стиля, взглядов, судьбы), есть объединяющие характеристики, которые и позволяют увидеть спрятанный нарратив.
Спрятанный потому что одна из первых вещей, которую выясняет незнакомый с темой читатель, заключается в том, что партия практически с начала блокады поощряла ведение дневников. Большевики смотрели на перспективу, предполагая, что эти источники помогут им потом создать конструкт, где народ и партия едины, заключают друг друга в объятия в счастливом порыве принадлежности к передовому обществу, где мудрый товарищ Сталин лучистым взором разгоняет толпы немецко-фашистских агрессоров. Вот только кошмар произошедшего совсем скоро всё это стёр.
Ленинград был территорией, которая была как бы «в коробке». Это была не советская территория, хотя советские законы там действовали; город был слишком плотно обложен осаждающими его частями вторгнувшейся армии. Но это была и не немецкая территория, т.к. оккупация как таковая не состоялась. Пограничье.
В том числе из-за этого у ленинградцев (в контексте данной работы — у авторов дневников) происходило полномасштабное изменение личности. Сначала война разрезала их социальные роли: вместо журналистики ты будешь тушить зажигалки, вместо научной деятельности будешь укладывать штабеля трупов. Потом — и очень быстро, из-за постоянных бомбёжек и налётов германской авиации, которая долбила город иногда по 18 часов в сутки — произошёл пространственный разлад. Ушло старое понимание пространства, стёрлось «близко», поменялось «далеко»; дома зияли дырками и снесёнными стенами, через которые можно было пройти.
С началом голода (а уже к середине сентября немцы спалили Бадаевские склады, где было огромное количество провианта, который туда сложило руководство города), это лишь усилилось. Люди теряли жизненную энергию, в городе перебило электричество и водопровод, с началом холода трубы лопались, заливая улицы нечистотами. Школа, университет, полноценная занятость, старый образ жизни — всё скукожилось, отмирало. Обычным делом стало лежать в комнате, в кровати, без сил и страшно страдая от голода. В таких условиях «выйти на улицу» означало выйти в подъезд, где было так же холодно, как и на улице. Сил подняться по лестничному пролёту уже не оставалось.
Ленинградцам изменяло чувство времени, что отмечали многие из авторов. Некоторые даже отмечали, что ведут дневник ради датировок и какой-то систематизации. Казалось, что время бесконечно тянется, закольцовано, что ему нет предела, и что страдания никогда не прекратятся. Это накладывалось на изменившийся язык и новые термины: «кольцо» и «большая земля», которые наполнили речь, лишь подчёркивали отчуждённый статус. «У кольца нет конца», как написал один человек. Не было конца и только начавшемуся ужасу.
Другие изменения в языке коснулись приветствий («Вы живы?» вместо «Добрый день»), предлогов для начала разговора («Вы где питаетесь?» вместо «Как вам сегодня погода?»).
Новый статус города-пограничья подчёркивал и недостаток информации. «Ленинградская правда» не могла сообщать в полной мере то, во что город погружался. Радиосводки в конце 1941 года не могли порадовать наполненностью: часть респондентов, на контрасте с патриотизмом после начала боевых действий, начали задавать неудобные вопросы вроде «Ну и как же так, мы там-то и там-то немцам дали, а сами всё откатываемся?». Один из авторов додумался скоро, что всё это лишь для отвода глаз, что раз так подчёркивают подвиги отдельных лиц, то это значит, что в целом у армии всё плохо. Нет, идеология не была отвергнута как инструмент, т.к. большинство людей были воспитаны таким образом, были советскими русскими. Однако они стали смотреть на неё пристальнее, находясь не совсем «внутри» неё, а «рядом» с ней.
Особенно болезненным и изменяющим сознание было новое тело. Если советская пропаганда всегда подчёркивала «нового советского человека» — сильного физически, волевого, партийного, то тело нового, созданного блокадой человека, не имело с ним ничего общего. Оно отвращало, пугало, оно было крайне слабым, непредсказуемым (особенно желудок и ноги). Оно мучило своего хозяина постоянным голодом, оно не слушалось. Это тело было андрогинным: половые признаки исчезали (!), физическое влечение уходило. Можно попытаться представить, в какую депрессию и отчаяние всё это вгоняло людей, ещё вчера бывших другими. Дневник был ещё одним способом продраться через эту чёрную завесу быта — мрачного, в высшей степени нечеловеческого, где не было ничего хорошего, одни страдания и сосредоточенность на еде, еде, еде.
Семья в таких условиях рушилась. Это уже не была «новая ячейка общества», это был — понятно, как это звучит, но так выходит из написанных дневников — отягощающий фактор. Делить еду, которой не хватало даже на одного, было невыносимо. Пропаганда потом нарисует красивый образ единого сообщества, где все старались помочь друг другу. Никто и не отрицает, что такое было; но вот в 125 дневниках негатива в десятки раз больше, чем каких-то рассказов про помощь чужих людей. Конкуренция за ресурсы, за еду, за грамм хлеба — и между самыми близкими людьми, вот этого хватает. Брак и нежная любовь, которые пересохли и разрушились за полгода, а жена мужа «недокормом» довела до смерти. Ребёнок, который признаётся дневнику, что ворует у матери и сестры, что они это подозревают, а он лжёт, и что его родные ждут его смерти. И ребёнок называет себя паразитом, признаёт, что они правы и тоже ждёт смерти (умер весной 1942 года).
Голод сводил людей с ума, обострял паранойю («Она ворует! Я точно вижу!»). Психоз и паранойя в начальной стадии порождали ненависть. На советскую систему разных пайков и «полезности» наложились условия, созданные нацистами и их войной. Появилось такое понятие как «вовремя умер», т.е. в начале месяца\декады, когда отовариваются хлебные карточки. Они переходили семье, становилось побольше еды. По закону, труп надо было хоронить, но это было роскошью (потому что платить будешь хлебом). Карточки надо было сдавать в обмен на справку о смерти. По понятным причинам, некоторые предпочитали этого не делать. Были и случаи каннибализма: это были самые пугающие слухи, примеры тоже даны. Их было немного (1,500). Распад касался даже отношений «мать-ребёнок». В работе проанализирован дневник женщины, работницы детдома, которая в этом аду спасала детишек и описывала ситуации. Характерно, что источник был опубликован при советской власти (в 60-е), однако, разумеется, чёрная суть из него была вырезана.
Социальное взаимодействие в основном заключалось в многочасовом стоянии в очередях, и это тоже был мир беспощадности. К моменту, когда система устоялась, люди уже выгорели душевно и сочувствие испытывать уже не могли. В этих условиях нарождалась новая элита и новые страты, которых все ненавидели (и которым завидовали отчасти?). Первой стала обслуга, «хлебные бабы». Они и одевались значительно (золото, меха), и выглядели физически ещё более значительно по сравнению с блокадниками. Второй стратой стали «блокадные жёны» или «девушки из столовой»: они выглядели как нормально питающиеся женщины, подчёркнуто красиво одетые и накрашенные. Всем сразу было видно, что эти дамы меняют половые услуги на тарелку супа. Проституция как стратегия выживания коснулась и мужской части населения: те самые необъятные «хлебные бабы» покупали мужчин за дополнительный хлеб. Соглашались, однако, на это не все. Ну и разумеется, традиционная элита, профессиональные патриоты, партийцы. Эти тоже кушали хорошо (они, впрочем, и раньше не особо отказывали себе). Кому — голод и кошмар, а кому — трёхразовое, с икоркой и шоколадом из спецраспределителя.
Мир авторов дневников был наполнен обсуждением этих тем, своих переживаний и стратегий выживания. Немцы, которые эту ситуацию создали, в них есть, и проклятия на голову их там тоже есть, но как-то фоново; в большей степени, объяснение положению искалось внутри замкнутого в кольце общества.
Отдельно автор анализирует медицину и формирование понятия «дистрофик». Интересный факт: весной 1942 года был введён запрет на термин, т.е. врачам было предписано не писать про смерть от дистрофии (истощения), а также не выписывать освобождения от работы на основании указанного. Нужно было повышение производительности труда — вот и повышали… К дистрофикам, как ни удивительно, уже на втором году осады относились с негативом: они напоминали выдержавшим о возможности (пройденного?) поворота судьбы для них. «Дистрофик» стало ругательством вместо довоенного «колхозник».
Дневники стали для авторов и окном в какой-то другой мир, и попыткой пересобрать себя, разрушенных, заново, и способом послужить потомкам. Кто-то писал в них рассказы, фантазировал о грядущем, кто-то вспоминал о прошлом, кто-то просто фиксировал хаотично то, что видел, извиняясь перед читателем будущего за сумбур и страдания. Один автор просил историка будущего — он надеялся, что хорошего будущего — не забыть «нас, маленьких людей».
После снятия блокады государство и партия начали получать назад дневники, которые поощряли вести. И тогда же партийцы начали брать в своих руки формирование образа блокады, т.е. того, как о нём будут знать потомки. Часть авторов пыталась источники опубликовать, но это уже тогда, с 1944 года не укладывалось в доминирующую линию. Как выразился один партиец: «Кому нужны эти клинические записки дистрофиков?». Нужна была героика, чтобы «не очень плохо» всё было — а в дневниках было так, а также много, много хуже. После войны ждановщина ещё раз прошлась по несчастным блокадникам. Позиция «А зачем вы выпячиваете свои страдания? Вы что, страдали больше всех? А почему у вас нет товарища Сталина, а? Надо подчёркнуто его подчёркивать, а у вас чуть не вражеские сентенции идут». Бедные люди.
Попустило только при Хрущёве. Ещё полегче (но не полностью, т.к. нарратив уже был сформулирован) стало при Брежневе, на волне создания и оформления культа победы 1945 года. Но и до сегодня остаются кое-какие табу, а также вопрос — чем была эта блокада, насколько необъятной была травма для общества ленинградцев, а также война как травма в целом для советского общества. Именно при чтении этой работы мне показалось, что знакомая позиция «жизни от противного», т.е. равнения на плохое, а не хорошее (не «Жить надо КАК…», а «НЕ надо жить как…») сформировалась тоже после войны. И осталась в наследство как социальная рана от той войны, до сих пор в обществе заметная. На фоне произошедшего с несчастными людьми, писавшими эти дневники, абсолютно любое состояние «не бомбят и хлеб вроде есть» стало недостижимо прекрасным.
Я хотел было завершить умствованием про историческую память в её нынешней версии, об изменчивости её формы, но не буду. Для меня лично самая толкающая на размышления глава — это про распад семьи, как очередное напоминание об иллюзорности чувств, благополучия и того, что называется цивилизацией и человечностью. Забери пищу — и ты больше не узнаешь тех, с кем жил.
Вывода здесь нет, разве что кроме благодарности авторше, проделавшей глубокую, трудную, горькую работу и вытащившую на свет то, что положили под спуд на долгие десятки лет.
См. также: «Неоконченная демобилизация»: ветераны-красноармейцы в послевоенном Ленинграде.
|
|
</> |


 Продление рабочей визы в России: советы
Продление рабочей визы в России: советы  Новый тренд!
Новый тренд!  О демократической Южной Корее
О демократической Южной Корее  Малыш и Ко
Малыш и Ко  Доброе утро!
Доброе утро!  Новости демократии из Румынии
Новости демократии из Румынии  National Geographic представил лучшие снимки, сделанные фотографами в 2024 году
National Geographic представил лучшие снимки, сделанные фотографами в 2024 году  Без названия
Без названия  Про "образы победы"
Про "образы победы" 



