1881. Экономический эскиз №3.
 krummi_svaf — 24.10.2024
krummi_svaf — 24.10.2024
К характеристике положения крестьян в Западной Англии.
Осенью 1880 года Зибер приезжает в Лондон (об этом здесь) и работает над своей книгой и статьями в библиотеке Британского музея (знаменитом Круглом читальном зале, открытом в 1857), что и объясняет преимущественно британскую тематику и источники, упоминаемые в «Эскизах». Как он писал в Париж П.Л. Лаврову 31 октября 1880:
У Маркса я действительно до сих пор не был, главным образом потому, что во всяком новом месте мне нужно потратить много времени на ориентирование, а здесь и подавно, где к тому же от мрака и тумана все время находишься в каком-то полусознании. Притом я занят с раннего утра до семи часов вечера, и после этого хочу до изнеможения спать, чтобы как-нибудь отдышаться от вдохнутой в Музее копоти и дыма. Но быть у него я имел всегда в виду и не дальше как сегодня постараюсь исполнить это намерение. Вчера, между прочим, я был у Энгельса. Когда именно я оставлю Лондон, я знаю только приблизительно, – через месяц-полтора…
В итоге Николай Иванович задержался здесь, вероятно, до весны 1881 года. В своих воспоминаниях И.И. Янжул, также проводивший эту зиму в Лондоне, рассказывает:
Эта зима мне очень памятна по тому оживлению, с которым она прошла, незауряд всем многочисленным мною сделанным раньше посещениям Англии и жизни там. Во-первых, ни разу больше мне не пришлось работать в Англии при таком большом и интересном русском обществе, главным образом из числа наших экономистов. В эту зиму 1880-81 г., русская колония в Лондоне, работавшая в Британском музее, состояла из следующих лиц: Н.А. Каблуков, ныне профессор Московского университета, В.Г. Яроцкий, Н.И. Зибер, умерший экономист, мой старый приятель (и еще более А.И. Чупрова), Н.А. Русанов, В. Т. Судейкин, впоследствии магистр политической экономии, писатель-экономист, Даневский, профессор международного и уголовного права в Харькове (умерший) и т. д., не говоря о лицах, появлявшихся, так сказать, на нашем горизонте в Лондоне пролетом, на короткое время. Большинство экономистов были люди молодые, во всяком случае моложе меня, а потому, само собой, занятия их устроились как бы рядом со мной и отчасти с помощью моей. Работали мы дружно, весело, помогая друг другу и советами, и указаниями и в то же время, посвящая много времени на дело, не забывали и удовольствия, хотя в большинстве самые невинные, вроде прогулок и поездок по окрестностям Лондона и похождений по разным учреждениям. Почти ежедневно мы сходились к вечеру за чаем, или. у меня чаще всего, или в каком-нибудь пункте, назначенном заранее для экскурсии.

Третий «Экономический эскиз» представляет собой обзор книги знаменитого защитника природы и сельской жизни Ф. Гита «Жизнь крестьян в Западной Англии» – F. G. Heath. Peasant life in the West of England. London. 1880. Это второе переиздание «The romance of Peasant Life in the West of England», 1872 года, и его переделки «The English Peasantry» 1873, весьма далекое от классической британской пасторали, и Зибер оценивает ее весьма высоко:
Книга эта, являясь замечательно полной и живой картиной английского крестьянского быта за последние сорок лет, служит наглядным доказательством того, как много может быть сделано добросовестным частным наблюдателем в области исследования общественных явлений, если приняться за дело надлежащим образом. В исторической части своего труда автор пользуется работами нескольких парламентских комиссий, разновременно назначенных для исследования аграрных отношений, а также некоторыми частными источниками. Положение крестьян в новейшую эпоху он описывает на основании как личных наблюдений, так и многочисленных корреспонденций местных жителей.
Строго говоря, крестьянство в Англии было уничтожено еще огораживаниями, и к концу XIX века в сельской местности проживала только четверть ее населения. Земли принадлежали лендлордам, сдававшим их в аренду фермерам. Фермеры же, часть из которых тоже была мелкими землевладельцами, нанимали для работ безземельных батраков, о жизни которых и повествуется в книге.
Опустим множество печальных подробностей, через которых ведет читателя Зибер, описывая их дома (в большей части коттеджей свиные хлева соединены с жилищами и еще более прибавляют к крайней нечистоте помещения), труд (от 6 до 9-летнего возраста было работающих очень много, благодаря стесненному положению родителей), образование (незнакомство с самыми обыкновенными вещами – шитьем, варкой пищи и другими предметами домашней экономии, описывается, как господствующее повсюду) и доходы (в Беркшире и Уилтшире заработная плата не возросла нисколько в течении 80 лет с 1770 года, когда писал Артур Юнг, а в Саффолке даже упала!). В общем, жизнь крестьян «старой доброй Англии» викторианской эпохи, не отличалась от «России, которую мы потеряли» или же описаний средневековья из книг наподобие «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».
Крупные хозяйства вытесняют с рынка мелкие, как демонстрировалось в предыдущих «Эскизах», но мелкие хозяйства удерживаются на плаву за счет того то, что они выжимают со своих работников гораздо больше, чем мог бы с них взять лендлорд, в основном за счет субаренды участков (allotments):
…в окрестностях Бриджватера средняя рента с акра, выплачиваемая лорду, составляет 3 ф. ст., фермер же берет за нее с рабочего по 12 ф. с акра, да еще под видом участка в 1/3 акра дает ему земли гораздо меньше. Таким образом, бедный рабочий, при своей ничтожной плате, обременяется вчетверо большей ценой, чем та, какую платит сам фермер лорду. Но это еще не все: отдавая рабочему землю в совершенно необработанном виде, фермер лишь очень редко снабжает его лошадьми и плугом, а дождавшись, когда рабочий возделает и улучшит свой участок, фермер часто отбирает таковой обратно и дает ему другой, необработанный.
А также оплаты натурой (truck-system):
…под видом «grist-corn» рабочий часто получает хлеб, вымолоченный из брошенных после жатвы на полях колосьев, которые предварительно пролежали долго на поле, промокли и даже пустили ростки. Благотворительность является на помощь, но, но словам автора, «рабочему, при этой системе уплачивают частью за его труд дарами благотворения, вместо того, чтобы уплатить ему сполна заработную плату от хозяина».
…рабочим дают самый низший сорт сидра, приготовляемый из так называемой «падалицы». Иногда эта падалица отдается свиньям, и в таком случае рабочим готовят сидр из выжимок, оставшихся от приготовления лучшего сидра, идущего в употребление фермера. Стоимость этого сидра равняется половине или трети стоимости сидра, который пьет сам фермер. Впрочем, определить продажную его ценность трудно, так как никто его не покупает. Этого-то пойла дается обыкновенно рабочему от 3 до 4 пинт в день, женщине и дитяти пропорционально меньше. Ценность для взрослого считается в сумме 1,5 – 2 ш. в неделю и выдается вместо этих денег.
Нет ничего удивительного, что сельское население разбегалось, параллельно замещаясь машинами, а в сельской местности появляется новое сословие «джентльменов-фермеров», во многом напоминающее российских кулаков. Несмотря на это:
Переходя к нынешнему положению сельских рабочих западной Англии (1880), автор открывает в нем многочисленные признаки поворота к лучшему, что, впрочем, нисколько не мешает оставаться многому, как было. За исключением последних двух лет, обнимающих развитие земледельческого кризиса, общее положение крестьян несколько улучшилось.
Ничтожно, по сравнению с доходом крупных хозяйств и удачливых мелких хозяйчиков. Но это скорее объясняется наступившим малолюдством:
Причины упадка земледелия в 70-х годах, по словам свидетелей, заключаются, главным образом, в неурожаях, американском соперничестве и обеднении фермеров. Это последнее будто бы произошло оттого, что известное аграрное движение между рабочими в 1872 г., поведшее к учреждению между ними сельских союзов сопротивления, упало целиком на плечи фермеров и не коснулось землевладельца и его ренты. Подобный фермер распустил значительную часть своих рабочих, чтобы быть в состоянии платить другим дороже и через то запустил землю. Чтобы избегнуть конкуренции североамериканцев единственным средством, по мнению автора, как и многих других англичан, было бы перейти фермеру к производству продуктов местного потребления... До настоящего времени фермеры, вообще говоря, вели свое дело спустя рукава и не умели приспособиться к изменившимся условиям рынка.
В преимущественно промышленной стране, где урбанизация и индустриализация превращаются в самоусиливающийся процесс, чем больше машин – тем меньше работников требуется, и чем меньше работников остается на селе — тем больше фермеры нуждаются в машинах. Все, кто мог, отправились в города или в колонии, так что волей-неволей зарплата оставшихся немного подросла.
…было время, когда фермы были малы и отдавались в наем классу фермеров, который сам занимался тяжелой работой; но в течение последнего двадцатипятилетия мелкие фермы были соединены, и образовавшиеся таким образом крупные фермы были отданы в аренду джентльменам-фермерам, которые живут в зданиях, похожих на дворцы. Ручной труд был изгнан из страны машинами. Стоя на высоте и обозревая окружающую страну, печально видеть, как мало встречает глаз коттеджей и других жилищ, между тем, как возрастание наших городов все более увеличивается и принимает, как я опасаюсь, весьма опасные размеры. Дурное последствие этой системы будет то, что в стране не останется среднего класса между джентльменом-фермером и крестьянином-рабочим.
В заключении третьего эскиза Зибер делает вывод, что «…население это жило и работало в каком-то особом мире под господством системы, которая была ничем иным, как переживанием времен феодализма». Несмотря на гордые звания мастерской мира, мирового извозчика и банкира, все достижения прогресса проходили мимо обитателей сельской глубинки, и жизнь английского крестьянина мало отличалась от жизни крестьян менее именитых стран. Поколение за поколением рождалось для той же жизни неустанного труда, никогда не перемежаемого теплым лучом надежды или честолюбия. Но новые времена неумолимо приходят даже в эти забытые края, куда уже тянутся железные дороги и телеграфные столбы, а навстречу им в поисках лучшей доли идут люди, забираясь во все уголки мира.
|
|
</> |

 Эффективная огнезащитная краска для дерева: советы по выбору и использованию специальных красок
Эффективная огнезащитная краска для дерева: советы по выбору и использованию специальных красок  «Принцесса Грёза» Михаила Врубеля
«Принцесса Грёза» Михаила Врубеля  А вот и да! :)
А вот и да! :)  со вкусом зимы
со вкусом зимы  Новогодняя Москва
Новогодняя Москва  Почему систейдинг не взлетел, но может взлететь: пожиратели мифов - о пределе
Почему систейдинг не взлетел, но может взлететь: пожиратели мифов - о пределе  ***
***  Гармония и деструкция
Гармония и деструкция 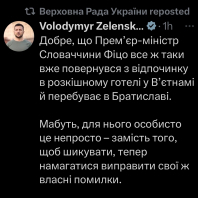 Вечернее
Вечернее 



