Подтверждение тезиса товарища Майсуряна о сильном влиянии крестьянства на
 neznamneznamov — 16.08.2025
neznamneznamov — 16.08.2025
Например, тут товарищ Майсурян пишет об изменении половой морали после Октября.
Недавно я прочел очень интересный роман Льва Овалова, автора неплохих детективов, под названием «Двадцатые годы». Чтение нелегкое, но стоит усилий и времени.
Один из важных эпизодов — свадьба комсомолки Даши Чевыревой в начале 20-х в церкви. Причем это дочь убитого кулаками коммуниста, секретарь волкомола, со средним образованием, и в бога не верит ни она, ни ее жених.
Как Даша объясняет свое твердое решение венчаться в церкви?
«Послушайте и вы меня, — неторопливо, ничуть не смущаясь, сказала Даша. — Конечно, вы можете отнять у меня комсомольский билет, но в комсомоле-то я останусь? Я ведь пришла в комсомол не затем, чтобы стать секретарем волкомола, я в комсомол вступила, чтобы вместе со своим батей бороться… Я против богачей, но я тоже хочу хорошей жизни, хочу быть сытой и хочу, чтобы дети мои тоже были сытыми. Я нашла себе парня, я нашла, а не он меня, потому что первого попавшегося парня я бы до себя и не допустила, он совсем простой и даже вторую ступень не кончил, обыкновенный мужик, но он будет мне верным мужем и не побоится никакой работы. Даже не знаю, станет ли он коммунистом...
— Отберете билет? — продолжала Даша. — Ваша воля. Только я его получу обратно, потому что я тоже за Ленина. Я ведь в сторону не ухожу и буду бороться за нашу власть.. А теперь послушайте насчет церкви. Я хочу, чтоб меня уважали на селе, потому что трудно бороться, не пользуясь уважением людей. А если я стану жить с мужем невенчанная, бабы начнут называть меня гулящей, в деревне не привыкли, чтоб мужик с бабой сходились просто так, без обряда. Вот потому-то и я… Моя бабка венчалась, мать венчалась, и я обвенчаюсь в церкви. Не потому, что верю, а чтоб люди видели, что я не для баловства иду замуж, а всерьез. Может, через двадцать лет я сама не пущу свою дочь в церковь, да она и не пойдет за ненадобностью, а сейчас это надо, потому что если какая-нибудь баба не окрестит сейчас ребенка в церкви, вся деревня будет дразнить его выблядком…
Грубое слово, оно не прозвучало в ее устах грубо, оно лишь выражало тревогу за себя, за будущих своих детей, за уважение людей, которое она не хотела терять.
Слава был не согласен с ней, и все-таки в чем-то она была права.
— Но ведь мы же должны, пойми ты это, должны строить новое общество, — с отчаянием выкрикнул он.
— Должны-то должны, только я не знаю, какое оно еще будет, это новое общество, — сказала Даша. — Вот намедни была я в городе, зашла в женотдел, дали мне там штук десять книжонок — какая семья должна быть в коммунистическом обществе, велели раздать девчатам, а я прочла и ни одной не раздала — такой в ней стыд, разве что отдам ребятам на курево.»
Что это за книжка? Книжка видной деятельницы компартии А.Коллонтай. «Семья и коммунистическое общество«.
«Какая уж это семейная жизнь, когда жена-мать на работе хотя бы восемь, а с дорогой и все десять часов!»
«Ну и что из того? Мама ходила на работу, — думает Слава, — и воспитывала нас…»
«Семья перестает быть необходимостью как для самих членов семьи, так и для государства…»
Почему? Маленькая сейчас у Славы семья, только мама и Петя, а все равно ему тепло при одной мысли, что есть у него семья…
«Или это пережиток, — думает Слава, — и не нужно мне ни мамы, ни Пети?…»
И какая же ерунда дальше:
«Считалось, что семья воспитывает детей. Но разве это так? Воспитывает пролетарских детей улица…»
Ерунда! Нет ничего крепче рабочих семей, и какие отличные люди выходят из этих семей! Ленин тоже рос в семье, иначе он не стал бы таким хорошим человеком…
И что же автор брошюрки советует дальше?
«На месте прежней семьи вырастает новая форма общения между мужчиной и женщиной: товарищеский и сердечный союз двух свободных и самостоятельных, зарабатывающих, равноправных членов коммунистического общества… Свободный, но крепкий своим товарищеским духом союз мужчины и женщины вместо небольшой семьи прошлого… Пусть же не тоскуют женщины рабочего класса о том, что семья обречена на разрушение…»
«Сознательная работница-мать должна дорасти до того, чтобы не делать разницы между твоими и моими, а помнить, что есть лишь наши дети, дети коммунистической трудовой России… На месте узкой любви матери только к своему ребенку должна вырасти любовь матерей ко всем детям великой трудовой семьи… Вырастет большая всемирная трудовая семья… Вот какую форму должно будет принять в коммунистическом строе общение между мужчиной и женщиной. Но именно эта форма гарантирует человечеству расцвет радостей свободной любви…»
Чудовищно! Даже собаки не обмениваются щенками!
"Моя мама, — думает Слава, — очень хорошая женщина, и к тому же она еще учительница, она любит своих учеников, и все-таки я и Петя для нее самые дорогие и близкие. А как же иначе? Ведь это она нас вырастила и воспитала. Многое помогло мне стать коммунистом, но ведь и мама тоже помогла…"
Сразу видно, что Слава из интеллигентной семьи приводит те же по сути доводы, что и крестьянка Даша. Не случайно действие происходит в Орловской губернии, где практически нет промышленности, и комсомольцы и комсомолки из крестьянства и интеллигенции.
Слава, судя по всему, ничегошеньки не знает про отношение классиков марксизма к святости семьи. И при чем тут собаки? Собаки вообще домашние животные, но сука может выкормить и чужих щенков, и даже не обязательно щенков. При чем тут «обмен»?
Люди с древнейших времен жили небольшими группами охотников и собирателей, где неважно было, какая именно женщина родила ребенка, тем более неважен, часто неизвестен, был отец. Ребенка любила вся группа, и ухаживала за всеми детьми, иначе человечество не выжило бы тогда.
И позднее кровное родство вовсе не обязательно было самыми тесными узами. Пушкин любил свою крепостную няню куда больше, чем светскую мать.
Народ говорит "Не та мать, которая родила, а та, которая вскормила". Даже у щенков, если на то пошло.
По книжке Коллонтай комсомольцы провели диспут, в котором показали тот же уровень знания марксизма — в данном вопросе никакой, и ту же приверженность «традиционным ценностям».
« А теперь представьте себе общество, о котором мечтали Маркс и Энгельс и которое мы теперь создаем, и подумайте, сохранится ли семья в таком обществе? Разумеется, сохранится. Счастливый человек не откажется от своего ребенка, не откажется же он от самого себя, потому что ребенок — это его собственное и более совершенное воплощение. А если человек любит своего ребенка, значит, любит и женщину, родившую этого ребенка, потому что гармонический человек будущего будет просто не способен искать легких и временных связей...»
Это говорит комсомолец из крестьян-бедняков, читавший даже Томаса Мора и Фурье, но явно не «Происхождение семьи» Энгельса.
Но почему для крестьян была важна «крепкая семья», которая, кстати, включала не только родителей и детей, но и взрослые сыновья часто оставались с родителями. Потому, что раздел имущества означал бедность. Мало работников, мало земли.
Не случайно в «Коньке Горбунке» Ершова 3 взрослых холостых сына живут с отцом, и только получив деньги, женятся:
Два же брата между тем
Деньги царски получили,
В опояски их зашили,
Постучали ендовой
И отправились домой.
Дома дружно поделились,
Оба враз они женились...
В крестьянской «крепкой семье» не больше высокой морали, чем в безбрачии католических священников, которое тоже основано на неразделе церковных владений. И примеры того, чем на деле часто становится и такая семья и такое безбрачие, приводить, полагаю, не надо.
Крестьяне составляли в СССР очень долго большинство населения. Немудрено, что их мораль возобладала, так как большевики, в том числе Сталин, должны были опираться на массы, а значит, и уступать массам, в том числе в этом вопросе. Товарищ Майсурян прав, как обычно.

 Банкротство физлиц: когда помощь юриста критична
Банкротство физлиц: когда помощь юриста критична  Как катамаран раздвоенный, Горький с Нижним плыл по Волге...
Как катамаран раздвоенный, Горький с Нижним плыл по Волге...  Доброе утро!
Доброе утро!  Авиационные фотографии с Корфу 2024
Авиационные фотографии с Корфу 2024 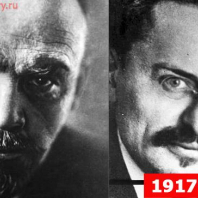 Из книги "1917-й в письмах и дневниках".
Из книги "1917-й в письмах и дневниках".  Начало сезона штормов в Хихоне
Начало сезона штормов в Хихоне  Какое место выберете?
Какое место выберете?  19 октября
19 октября  Картиночный анонсик
Картиночный анонсик 



