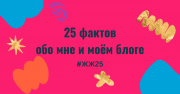Д.Коцюбинский. Почему Россия – не Европа. Окончание
 aillarionov — 29.03.2018
Запрос на православного хана
aillarionov — 29.03.2018
Запрос на православного ханаТаким образом, неуверенность в себе, в своей способности утвердить «новую самодержавную легитимность», была присуща не только самому Ивану III, но и тем, кто, вроде бы, был готов выйти на бой против «самозваного царя». Ибо оставался вопрос – а как дальше жить без царя?
Иван III прекрасно понимал, что как только с формальной зависимостью от Орды будет покончено, он столкнётся с тем, что его окружит множество лоббистских групп, начиная от конкурирующих членов семьи, продолжая церковными иерархами и кончая Боярской думой. И каждая из этих групп в новых условиях будет пытаться получить от вновь испечённого самодержца исключительные привилегии. Так и вышло в реальности. Практически все последующие четверть века, прошедшие после освобождения от ордынской зависимости, Иван III посредством перманентных интриг и репрессий методично «укрощал» фрондирующие группировки, превращая активных и временами дерзких лоббистов в покорных холопов. В итоге к концу правления Иван III сумел стать полноценным самодержцем, абсолютно не зависящим не только от внешних акторов, но и от своих подданных. Именно за ним впервые и закрепилось прозвище «Грозный», которое впоследствии «перехватил» у Ивана III его внук и тёзка.
Но этот сложный макиавеллистский маршрут Ивану III вряд ли удалось бы проделать столь успешно (тем более задолго до появления «Государя» Макиавелли), если бы со стороны общества, включая упомянутые лоббистские группировки, не существовал изначальный запрос на «грозного царя», призванного заменить собой канувшего в Лету ордынского хана. То есть запрос на такого «своего, православного» правителя, который был бы столь же грозным и страшным, как когда-то были Тохтамыш, Батый и другие ордынские владыки. Избавившись от татарского царя, Москва сразу же стала страстно мечтать о собственном тиране, без которого московские люди просто не мыслили себе ни внешней силы, ни внутреннего порядка. Жизнь без тирана представлялась полнейшим хаосом. «Мы будем выяснять, кто из нас на что имеет право и всё равно никогда не сможем договориться. И потому нужен тот, к кому всегда можно обратиться с вопросом, кто из нас старший и что мы можем, а чего не можем», – примерно так рассуждали жители Московского государства.
Иными словами, они стремились к обретению высшей инстанции, которая могла бы разрешить любой вопрос окончательно. Пусть и несправедливо, но зато – окончательно. А поскольку никто больше этого сделать не мог, то любое, даже самое несправедливое решение этой силы оказывалось «справедливым по определению». Просто потому что никаких других возможностей решить вопрос – не существовало в принципе.
Общественный запрос на «своего самодержца» (православного великого князя – тирана) наглядно отразился в очень показательном литературном памятнике, который появился на свет в 1480-х годах, то есть сразу после того, как Москва вышла из состояния зависимости от ордынского царя и когда возникла срочная необходимость в создании «идеальной модели» собственного самодержца.
Речь о «Сказании о Дракуле-Воеводе» – политическом трактате, написанном главой внешней политики Ивана III дьяком Фёдором Курицыным (к слову, по тем временам – «западником» и «либералом»). Это была первая оригинальная русская светская книга, хотя и написанная «по мотивам» широко распространённых в ту пору в Европе печатных памфлетов о страшном валашском господаре Владе Цепеше по прозвищу «Дракула» (Дракон). Примечательно, что из всего множества европейских ренессансных текстов и нарративов московским обществом (по крайней мере, его элитой) был востребован именно этот. Правда, он был не просто востребован, но и радикально переосмыслен.
В «Сказании о Дракуле-Воеводе» описан некий гротескный правитель-живодёр. Например, «социальный вопрос» он решает так: приглашает всех нищих к себе, заводит их в дом, кормит до отвала и сжигает, чтобы «и они от своей бедности не страдали, и мы – от них». Или вот как он учит жён заботиться о мужьях. Заходит в дом, если видит на муже продранную рубашку, задаёт вопрос жене: «Что, муж не давал тебе льна, чтобы сшить новую рубашку?» Получив ответ, что с запасами льна всё в порядке, приказывает отрубить жене руки, вырезать срамное место и посадить её на кол. Воинов, возвращавшихся с поля боя со следами ран на спине, а не на груди, Дракула также сажает на кол, приговаривая: «Ибо не мужчина ты, но женщина». Османским послам за отказ снять чалмы приказывает приколотить их к черепам гвоздиками. И т.д.
И вот этот ужасный Дракула позиционируется в Сказании как позитивный, своего рода идеальный правитель. Потому что при нём исчезли воровство и коррупция, все трепетали. У колодца стояла золотая чаша, которой любой мог зачерпнуть воду. И никто не смел её украсть – так велик был всеобщий страх перед Дракулой.
Единственное, что Дракула сделал неверно (и за что тут же поплатился), это то, что, оказавшись в плену, принял католицизм. После этого, когда он вернулся и повёл своих воинов в очередное сражение, они – по воле Господа, разумеется, – вдруг как бы будто обезумели, приняли Дракулу за врага и прикончили его общими усилиями.
Какая из этого вытекала мораль? А вот какая. Идеальный правитель может и должен совершать любые насилия и зверства по отношению к своим подданным, ущемлять любые их права, ибо только можно утвердить в стране порядок. Единственное, чего тиран не имеет права делать, это изменять правильной вере.
На первый взгляд, вся жизнь Дракулы являлась ежесекундным попранием христианских норм. Однако, с точки зрения московского человека, это было не так и, мучая и истязая людей, Дракула отнюдь не совершал преступления против Бога. Ведь он был правителем. А значит, как бы почти богом. И, значит, он мог позволить себе всё, что угодно, кроме одного: формального отречения от единственно правильной (православной) веры.
Почему русский человек даже грозному царю (которому заранее был готов разрешить всё, что угодно – любое злодеяние), не готов был позволить изменить православию, в общем, понятно. Православная вера была тем единственным утешением, которое оставалось в удел рабскому социуму. Каждый человек в рамках этого общества мог чувствовать себя носителем единственно правильной, а значит и единственно спасительной веры. И если на земле ему было очень плохо, то он твёрдо знал: на небе-то он уж точно спасётся, а заодно возьмёт реванш у всех «неверных», которые здесь, на земле, были более успешны, богаты и счастливы. Осознание своей сопричастности «единственно правильное вере» существовало на протяжении всей русской истории – и в Московской Руси, и в петербургской империи, и в советской России (где место православия временно занял «единственно верный» коммунизм). И сегодня этот важнейший элемент русского национального самосознания продолжает существовать, хотя и с переменным успехом, в виде идейно синкретического, или «гибридного», патриотизма.
Итак, силовая (террористическая) легитимность самодержавной власти и всё, что связано с её моральным оправданием, явилась первой важной «скрепой», оставшейся России в наследство от ордынской эпохи. Правда, вряд ли стоит говорить об уникальности этого элемента русской политической культуры, поскольку силовая легитимность в той или иной мере характерна почти для всех не европейских государственно-политических проектов. Идея верховной власти, не зависящей от общества и имеющей право раздавать «подданным» как привилегии, так и наказания, существует в рамках любой авторитарной, а тем более, тоталитарной системы.
Рабство русской элиты
Настоящая уникальность русской политической культуры, которая, правда, также имеет ордынские истоки, заключается в другом. А именно, в том, что русская элита внутри Орды структурировалась как «рабская элита», или как «элита второго сорта», – в отличие от элит других не европейских обществ, включая саму Орду в её, так сказать, татарской части.
Что касается самих монголов, то они отнюдь не были носителями рабской морали и не сознавали себя «холопами», хотя и обязаны были беспрекословно подчиняться императору или хану. У древних монголов существовал своего рода «кодекс варварской чести» – так называемая «Яса Чингисхана». В ней были прописаны очень жёсткие правила поведения и очень суровые наказания. Однако этот кодекс, во-первых, давал монголам ощущение своего превосходства – как единственно имеющих право на независимость – над остальными народами, а во-вторых, предусматривал возможность избрания императора, то есть, фактически узаконивал институт курултая – своеобразного органа «степной демократии».
Воспитанный на идеалах «Ясы» татарский воин обладал особой воинской моралью, которая предписывала ему сражаться, во-первых, умело и, во-вторых, самоотверженно. И потому вплоть до XVII века, пока у московских царей не появились иностранные наёмники и целые «полки иноземного строя», татарские отряды оставались наиболее надёжной и эффективной частью русской кавалерии. В отличие от русского дворянского ополчения, которое, как свидетельствует Сигизмунд Герберштейн, зачастую убегало с поля боя и в XVI веке (точно так же, как когда-то убегали древние славяне), татарская конница, как правило, держалась стойко и сражалась упорно.
Одним словом, ордынские татары (в широком смысле этого слова – включая потомков монголов, булгар, кипчаков, а также другие степные народы, непосредственно подчинявшиеся сарайскому хану) существовали в ощущении своей «первосортности». Их элита, соответственно, ощущала себя «первосортной», поскольку над ней не было ещё какой-то другой элиты.
А кем были русские князья ордынской эпохи? Как мы уже выяснили, они были холопами, которым выдан «ярлык». Но что такое «ярлык», если взять хотя бы современный смысл этого слова? Это – товарная бирка. То есть инвентарный знак, «сертификат» качества, присвоенный неким субъектом – некоему объекту. Таким же по своей сути «ярлык» был и в эпоху Орды. Одним словом, ничего почётного в институте ярлыка на самом деле не было, даже если учесть, что он мог быть изготовлен из золота, серебра или свинца. Правда, в монгольской империи «ярлыками» назывались не «бирки», а специальные грамоты, в которых перечислялись полномочия, делегируемые тому или иному должностному лицу. То, что являлось лишь «знаком ярлыка» (и что сегодня мы бы по внешнему виду как раз назвали «ярлыком»), именовалось китайским словом «пайцза». Впрочем, это лингвистическое уточнение не меняет сути феномена, о котором идет речь. Ханский «холоп», получивший пайцзу, то есть продолговатую бирку с отверстием в верхней части, обязан был носить её на себе – либо на шее, либо (что, вероятно, воспринималось как менее унизительное) прикрепляя к поясу. Как нетрудно понять, должностное отличие такого рода не имело ничего общего с традиционной аристократической честью, в основе которой лежали, прежде всего, представления о личной независимости её обладателя.
Приезжая в Орду и возвращаясь оттуда, русские князья именовали себя «холопами». Они были обязаны выходить пешком навстречу не только хану, но любому его посланнику, и вести разговор, «стоя у стремени». В итоге модель поведения как самих князей, так и того боярского класса, который на них ориентировался, структурировалась не по тем принципам, по которым должна, по идее, структурироваться этика высшего сословия в любом традиционном обществе. Ведь что главное для аристократа? Честь. У разных обществ представления о чести, конечно же, могут быть разными. Но принципиальное отличие любой чести – в том, что она – дороже жизни. Главное для аристократа – не выжить любой ценой, но любой ценой утвердить свою честь и своё моральное превосходство. А какая главная задача холопа? Выжить, притом любой ценой. Приспособиться. Угодить начальству – и задавить подчинённого так, чтобы он не мешал угождать начальству. Ну, и по возможности, ещё как-то обогатиться за счёт подчинённого, опять-таки любой ценой.
В эпоху Орды на Руси сформировалась «трехуровневая» модель социума, которую условно можно уподобить тюремной. Высший уровень («тюремное начальство») – ханы, которых позднее сменили «свои» самодержавные правители различных модификаций. Следующий уровень – привилегированные заключённые («авторитеты»), или «государевы холопы». Третий, самый нижний уровень («терпилы») – «сироты», которыми непосредственно помыкают «государевы холопы».
Описанная выше самодержавно-холопская модель общества, основанная на системе «двойного рабства», стала социально-политическим фундаментом русской цивилизации. Она сохранялась в неизменности даже в самые, на первый взгляд, просвещенные периоды российской истории. В начале XIX века об этом ясно и категорично писал Михаил Сперанский: «Итак, вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым; действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов». Правда, судьба самого Сперанского наглядно доказала, что даже философы в России свободными от самодержавного произвола быть не могут.
Оборотной стороной «второсортной» аристократической этики, к слову, явилось тотально негативное отношение в российском обществу к «боярству», «барству», а позднее и «чиновничеству». Слово «бюрократ», которое на Западе звучит нейтрально, в России до сих пор имеет чёткую негативную коннотацию.
Итак, русская элита в эпоху Орды усвоила не аристократическую, а плебейскую модель поведения. «Плебейская элита» – это элита, которая не держит слова, не заботится о народе, которая занята только своекорыстным выживанием «любой ценой». Для которой народ, эти несчастные «сироты» – просто «скот», «быдло». Хотя, казалось бы, по вере (вариант: по «единственно верной идеологии») «государевы холопы» и «сироты» – едины и должны быть хоть в чём-то близки и солидарны. Но на поверку оказывается, что вера или идеология в данном случае не играет решающей роли, а политическая функция «холопской элиты» оказывается глубоко паразитической. То есть не только не полезной, но даже вредной для остальной, «сиротной» части общества.
Здесь уместно напомнить, что классическая рыцарская этика обязывала аристократа защищать крестьян, женщин, вообще всех слабых, нуждавшихся в защите. И уж тем более рыцарь был обязан оказывать покровительство нижестоящему (тому же крестьянину), если он заключил с ним договор. Повторяю, речь не идет о том, как это зачастую выглядело на практике. Речь о неких идеальных моделях, на которые ориентировался социум.
В России ничего подобного «рыцарским идеалам» не возникло и, как мы понимаем, возникнуть просто не могло. Вместо этого возник не аристократический, то есть рабско-плебейский тип аристократической этики, который, в свою очередь, оказался «скопирован» и гротескно заострён моралью «низов». В итоге возник вполне самостоятельный и исторически уникальный феномен российской «цивилизации ресентимента» – самодержавно-холопской гражданско-политической системы, основанной на рабской морали «сверху донизу».
Здесь стоит чуть более подробно пояснить, что такое ресентимент. Сам этот термин впервые использовал Фридрих Ницше, обозначив им «рабскую мораль».
Ресентимент – «гремучая смесь» из комплекса глубоко внутренне противоречивых и в то же время «органически» дополняющих и катализирующих друг друга психологических качеств.
Прежде всего, это жгучая ненависть раба к хозяину – к тому, от кого раб всецело (либо хотя бы морально) зависит.
Далее. Это декларированное презрение к ценностям господина, оборотной стороной которого является тайное стремление завладеть этими ценностями. Иными словами, это иссушающая душу перманентная зависть. Басня «Лиса и виноград» – наглядная иллюстрация этой стороны ресентиментной морали: «Виноград “зелен” ровно до тех пор, пока я не смогу до него дотянуться»; «Мне не нужен айфон, мне вполне достаточно отечественного телефона на отечественных микросхемах, но когда у меня появляется айфон, я счастлив! И я могу искать и находить новые поводы для презрения и ненависти к тому, у кого я только что позаимствовал айфон». Такова суть этой внутренне лживой поведенческой установки.
При этом, когда, например, некоторые российские государственные деятели, выказывая презрение к Западу и ратуя за полную независимость российской экономики от него, при этом размещают на эту тему записи в Твиттере со своих айфонов, общество в большинстве не видит в этом ничего нравственно парадоксального. Дело в том, что общество к этому исторически адаптировано и просто не допускает мысли о том, что можно вести себя как-то по-другому. Согласно имплицитным установкам ресентиментного социума, это нормально, когда мы «думаем одно, говорим другое, а делаем третье», ибо «так мы выживаем, так мы побеждаем». «А что, надо, что ли, бегать по улицам и правду кричать? Если ты так делаешь, ты просто городской сумасшедший и ты ничего не добьешься в этой жизни в рамках тех правил, которые здесь установились». Поэтому демонстративная ложь, согласно канонам «рабской морали», является не чем-то аморальным, а просто нормой выживания.
Продолжением лживых свойств ресентиментной морали является также ложное смирение, стремление прикрыть свою слабость утверждениями о своей доброте и отзывчивости, которые оборачиваются агрессивной жестокостью и бессердечием, как только у носителя «рабской морали» появляется повод столкнуться с кем-то более слабым. Особенно, если этот более слабый в прошлом был тем сильным, которому «человек ресентимента» рабски зависел. Отсюда же – присущая «рабской морали» жажда реванша (вариант – имитации реванша).
И, наконец, в этот перечень следует включить фундаментальную неудовлетворённости собой (в терминологии Ницше – «нечистую совесть»), порождающую напряжённые поиски «козла отпущения», а также стремление к «стадности» (снимающей моральную ответственность с индивидуума за его безнравственные поступки) и к иррациональной агрессии («бунту бессмысленному и беспощадному»)…
Тотальное торжество банальной прагматики, убив в русской ментальности аристократические начала и породив феномен травмирующей «нечистой совести», в то же время обернулось колоссальным успехом российского государства как самодовлеющего геополитического проекта. «Русский проект» оказался очень живучим и способным к успешному развитию на отдельных, стратегически важных для него направлениях, – в отличие от той же татаро-монгольской цивилизации. Монголы и их непосредственные «восприемники» в какой-то момент просто застыли в своём «степном величии» и перестали развиваться. Они сочли позорным копировать жизнь горожан, своих соседей. Горожане так и остались для монголов «презренными купцами».
В итоге древняя империя Чингисхана и её осколки постепенно исчезли, и современная Монголия «вернулась» к своим исходным, «доимперским» территориальным размерам. (Правда, в современной Монголии – парламентская республика. Древний дух курултаев, как мы видим, сохранился в недрах монгольской «национальной души». В России же – президентская вертикаль. То есть Монголия ныне – политически свободная, маленькая и не слишком грозная страна. А Россия – страна большая и мощная, но наполненная массой внутренних политических ограничений).
Упадок татарского могущества в пределах Золотой орды своим последствием имел фактическое перетекание политической центра ордынской системы из «татарской» половины – в русскую, а точнее – московскую. Москва как бы стала новым Сараем.
Москва сумела одолеть «татар» и рвануть вперед по пути безудержного державного роста потому, что, за исключением своей жёсткой приверженности православию и самодержавию (что обеспечивало устойчивость, управляемость и цивилизационное самовоспроизводство системы в любых, самых экстремальных условиях), во всех остальных вопросах готова была копировать более успешных соседей.
Конечно, в рамках описанной выше ресентиментной морали это копирование неизменно сопровождалось декларацией своего превосходства над «лютерами», «латинянами», «сыроядцами», «басурманами», «пиндосами» и т.д. Однако на практике массированное подражание заграничным образцам (западноевропейским, греческим, османским, американским и т.д.) осуществлялось на всём протяжении московского, петербургского и советского периодов российской истории. В значительной мере оно сохраняется по сей день.
В этом – в безграничной способности к подражанию чужим образцам (военным, техническим, культурным) – и заключается главная сила прагматической плебейской этики, которая, как уже было сказано выше, стала в итоге двух с половиной столетий пребывания под ордынским ярмом, этикой русского общества в целом. Цивилизация ресентимента готова к усвоению всего того, что помогает ей выживать и побеждать любой ценой, невзирая ни на какие моральные табу и самоограничения.
Как показала практика, это позволило российскому проекту вполне успешно развиваться практически вплоть до конца XX века. В то же время, как особенно наглядно показал тот же XX век, оборотной стороной успеха «цивилизации ресентимента» стали изломанные судьбы и массовые психологические травмы огромного числа людей. При этом особенно вирулентными, травматичными и трудно опознаваемыми оказались ресентиментные переживания, связанные с «нечистой совестью». То есть с неспособностью человека признаться самому себе в том, что он поражён «стокгольмским синдромом» и вынужден «добровольно» идентифицировать себя с властью-террористом, готовой в любой момент растереть его самого в лагерную или какую угодно другую пыль…
Три важнейших элемента русской политической культуры
Подводя итог всему, сказанному выше, следует заключить, что Россия никогда не являлась и никогда не сможет стать Европой по причине того, что ещё в ордынский период её гражданско-политическая культура сформировалась как «антиевропейская», включив в свой состав три ключевых элемента.
Во-первых, это самодержавно-холопская модель взаимоотношений власти и общества.
Во-вторых, это «второсортность» как этическая основа поведения элит.
В-третьих, это ресентимент как фундамент национального самосознания.
Все эти элементы находятся в органическом единстве и составляют базис русской цивилизации, которая, таким образом, ни при каких обстоятельствах не может преобразоваться в либеральную демократию, не рискуя при этом обрушить свои державные (они же – самодержавные) основы.

 Как комплексное SEO продвижение сайтов помогает достичь вершин в поисковой выдаче
Как комплексное SEO продвижение сайтов помогает достичь вершин в поисковой выдаче  Приглашаем всех в юбилейный хешмоб #ЖЖ25! 25
Приглашаем всех в юбилейный хешмоб #ЖЖ25! 25  Лето в марте!
Лето в марте!  Закрывается от солнышка котик от erritetsu
Закрывается от солнышка котик от erritetsu  Почему католическая церковь испытывала неприязнь к кошкам
Почему католическая церковь испытывала неприязнь к кошкам  Тимотео Вити Портрет дамы
Тимотео Вити Портрет дамы  Образование в Онтарио
Образование в Онтарио  О последнем упущенном шансе Россия начинает проигрывать?
О последнем упущенном шансе Россия начинает проигрывать?  Крутой облом
Крутой облом