Дезертиры Великой войны (1914-18). Часть 1.
 foto_history — 23.10.2025
Но все же не взял я шпагу…
foto_history — 23.10.2025
Но все же не взял я шпагу…Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.
(Сергей Есенин, "Анна Снегина")
Первая мировая война с ее убийственной и убивающей монотонностью позиционных боевых действий, скверными бытовыми условиями для миллионов скученных в грязных траншеях солдат, чудовищными гекатомбами бессмысленных наступлений и беспрецедентной усталостью личного состава породила во всех воюющих армиях многотысячные контингенты дезертиров.

Дезертир. Худ. Илья Ефимович Репин, 1917.
Дезертирство - явление столь же древнее, как история войн человечества. Во все времена причины, толкавшие бойца на этот роковой шаг, были примерно одинаковы. Во-первых и в основном - страх гибели или получения тяжелого ранения, который становится сильнее воинской дисциплины, чувства долга или иной мотивации и даже опасения перед наказанием. Обычно это усугубляется деморализацией в результате больших потерь и поражений своей армии, а нередко также агитации подрывных элементов. Во-вторых - тяжелые бытовые условия службы, не в последнюю очередь - плохое и недостаточное питание, скверное обмундирование и нестабильная связь с домом. В-третьих - жестокое обращение со стороны командования и/или травля сослуживцев, как правило по религиозным, национальным или социальным мотивам. Для каждого человека порог переносимости этих трех бед индивидуален, и нельзя сказать, что даже очень храбрый и преданный солдат гарантирован от того, чтобы спасовать перед ними. Возможны комбинации и, кроме того, очень разнообразные личные обстоятельства в каждом отдельном случае. Но когда все это "переливало через край", данный бедолага солдатик "уходил в бега".

Дезертир. Антивоенный рисунок 1916-го г. канадского художника Б.М. Робинсона, изображающий Иисуса Христа перед расстрельной командой из воюющих армий Европы.
Дезертиры Первой мировой представляли собою дьявольский коктейль жертв войны и тяжких несчастий со всевозможными пороками, преступлениями и бесчестьем. Молодой испанский поэт Федерико Гарсия Лорка, в будущем - классик искусства своей страны, с умилением описывал в 1916 г. как в Испании, основном зарубежном приюте беглецов с Западного фронта, "французские дезертиры чокаются бокалами с дезертирами немецкими". Вот от такой романтизации дезертирства и следует держаться подальше. Честный солдат никогда не станет кичиться тем, что отчаяние и нечеловеческая усталость толкнули его на путь бегства. Именно поэтому наряду с классическими дезертирами во всех воюющих армиях существовали многочисленные категории полудезертиров и не совсем дезертиров (назовем их так), ловких военнослужащих, которые, уклоняясь от участия в боях и самовольно оставляя свои части, тем не менее умели балансировать на шаткой юридической грани, не позволявшей военно-судебным органам "пришить им статью".
Отечественному читателю, интересующемуся историей Первой мировой, более всего знакома проблема дезертирства в рядах Российской императорской армии, за прошедшее столетие с лишним пережившая неоднократную смену оценок официальной историографией и искусственное "накручивание" статистики. На самом деле, не таким уж повальным было дезертирство русских окопников до пресловутой "самодемобилизации" 1917 г. С начала войны до Февральской революции были зафиксировано 195 тыс. случаев дезертирства, а с февраля до сентября 1917 г. - еще 170 тыс. дезертиров ("Россия в Мировой войне 1914-18 гг. (в цифрах)". ЦСУ, отдел военной статистики, М., 1925). В сравнении с примерно 15,4 млн мобилизованных это не критично, даже если приплюсовать различных "полудезертиров".
Для сравнения начнем с описания проблемы дезертирства в стане врага, в вооруженных силах государств Центрального блока - Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии.
ГЕРМАНИЯ.
"Вот, скажем, эта глупая история с Детерингом... Во время переклички его хватились. Через неделю мы узнали, что его задержали полевые жандармы... Он держал путь в Германию (это был, конечно, самый безнадежный вариант), и, как и следовало ожидать, он вообще действовал очень глупо. Из того совершенно ясно вытекало, что его побег был совершен необдуманно и сгоряча, под влиянием строго приступа тоски по дому. Но что смыслят в таких вещах армейские юристы, сидящие в ста километрах от линии фронта?", - так описана в хрестоматийном романе Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" трагическая судьба немецкого крестьянского парня, типичного дезертира Великой войны.
Тем не менее, кайзеровская армия, хвалившаяся своей муштрой, железной дисциплиной и благоговением перед воинской иерархией, имела достаточно высокий уровень сопротивляемости деморализации, разложению и, как следствие - дезертирству. Послевоенная статистика зафиксировала от 130 до 150 тыс. случаев самовольного оставления части немецкими военнослужащими, в том числе 40-60 тыс. в рядах действующей армии, "которые могут быть классифицированы как дезертирство". Это при более чем 13 млн мобилизованных.

Война у них еще впереди... Возможно - и побег с линии фронта.
Безжалостная кайзеровская военная юстиция предусматривала за "безусловное" дезертирство очень мягкое наказание, в отличие от англосаксонского военного права, гласившего: "Вешать и стрелять!" Попавшемуся по первому разу беглому Гансу или Фрицу германские военные судьи, терпеливые как учителя младшей школы, фактически только грозили пальчиком в лайковой перчатке: "полевое заключение" (гауптвахта) и возвращение в часть. Повторное дезертирство каралось более сурово, до заключения в крепости. Лишь при отягчающих обстоятельствах, допустим - попытке перехода к неприятелю, вставал вопрос о смертной казни. И то, как отмечает британский военный историк Стивен Р. Уэлч, "наличие в немецких военных трибуналах судьи-адвоката, имеющего юридическое образование, усиливало влияние принципов «правового государства» на отправление военного правосудия и, вероятно, стало одним из факторов, способствовавших сравнительно небольшому числу смертных приговоров (150) и казней (48) за годы войны" ("Military Justice" by Steven R. Welch, International Encyclopedia 1914-1918-online).
Из 7 936 осужденных "злостных" немецких дезертиров всего 18 (по другим данным - 25) были доведены трибуналами до стенки и расстрельного взвода. Как отмечал исследователь немецкой военной юстиции Бенджамин Циман, "хроническая медлительность и крючкотворство сторон затягивали рассмотрение дел", например, только 17% из судебных процессов в 1918 г. были закончены. Очень многим дезертирам просто повезло: не успели осудить, война кончилась! При этом внесудебных казней, которыми грешили офицеры "K und K" австро-венгерской армии, "застегнутая на все пуговицы" германская военно-бюрократическая система не допускала.
В войсках "доброго кузена Вилли", как любил называть немецкого коллегу и венценосного родственника всероссийский Николай II, до 1917 г. бегство солдат не являлось значительной проблемой. Жестоко вбитая под "пикельхаубы" прусская дисциплина до поры держала "зольдат" в окопах даже несмотря на тяжелые потери, голодный паек и растущее чувство безнадежности.

Окопная тоска по-немецки.
Более 80% немецких дезертиров пришлись на конец 1917-го и 1918 гг., на запасные части и Западный фронт (Восточный устранился после Брест-Литовского мирного договора). А вот из почти миллиона кайзеровских солдат, которые с момента объявления Компьенского перемирия 11 ноября 1918 г. просто разбрелись по домам, не будучи уволены в запас формально, большая часть несла службу именно в оккупационных войсках на Востоке. Так что хваления кайзеровская армия тоже видела явление "самодемобилизации".
АВСТРО-ВЕНГРИЯ.
"Эти многочисленные отряды укрываются в горах и лесах, нападая на тех, кого объявляют угнетателями народа; они сами выбирают себе капитанов, или "харамбаший", и при решении всех дел употребляют примитивную форму демократии", - в книге "Хорватский бог Марс" писатель Мирослав Крлежа посвятил эти строки не свободолюбивым стародавним разбойникам-гайдукам, а дезертиром Австро-Венгерской армии, к концу Первой мировой превратившимся в "двуединой монархии" в самостоятельную военно-политическую силу, так называемый "Зеленый кадр" (Zeleni kadar).
Нельзя сказать, что император Франц-Иосиф I ничего не делал для нормализации межнациональных отношений в своем "лоскутном Вавилоне на Дунае"; не всегда он был воспетым Ярославом Гашеком выжившим из ума "стариком Прохазкой". Однако когда дело доходило до реалий "императорской и королевской", "K und K" армии, дела обстояли весьма похоже на свое описание в бессмертном романе "Похождения бравого солдата Швейка". Из-за низкой мотивации и национальных унижений со стороны офицерства, феномен дезертирства в Австро-Венгрии в 1914-18 гг. носил выраженную этническую окраску. Легко сдавались в плен или бежали с фронта в первую очередь солдаты из "нетитулярных" наций империи - славяне, евреи, в меньшей степени венгры. Особняком здесь стояли части из уроженцев Боснии и Герцеговины, имевшие репутацию чуть ли не "австрийских янычар", отличавшиеся боевым духом и не раз применявшиеся командованием для подавления беспорядков в войсках и ловли тех же дезертиров.

Венгерские гонведы (см. форменные брюки с украшениями) "K und K" охраняют своих схваченных сослуживцев-дезертиров.
С массовой деморализацией войск и, как следствие, появлением потока беглецов из армии "доблестная K und K" столкнулась уже к 1915 г., претерпев череду унизительных поражений. Усугублялось положение продовольственным и производственным кризисом в тылу (а как иначе - работяги гниют в окопах!), особенно чувствительно ударившим по беднейшим слоям населения, из которых происходило большинство солдат. Вот как описывает этот процесс военный историк Ричард Лейн: "Начиная с осени и зимы 1914 года большинство солдат перестали писать в письмах на патриотические темы, а вместо этого открыто выражали свои страхи или рассказывали о пережитых ими трудностях... Более того, многие семьи не имели никакого дохода, кроме жалованья мужей или отцов, служивших в армии, и не могли выдержать растущие цены на продукты и другие товары первой необходимости. Семьи, чьи кормильцы были убиты или взяты в плен, получали лишь минимальные пособия и часто голодали... В результате солдаты оказались перед эмоциональной дилеммой: остаться ли им на фронте... и бросить семьи на произвол судьбы, или дезертировать из армии и вернуться домой?" ("Between Acceptance and Refusal - Soldiers' Attitudes Towards War (Austria-Hungary)" by Richard Lein, International Encyclopedia 1914-1918-online).
Ситуацию усугубляло шельмование официозной пропагандой и командованием военнослужащих славянского происхождения (реже - евреев, цыган и венгров), которых, не всегда обоснованно, обвиняли в нежелании воевать, добровольной сдаче в плен и разгромах на фронте. При чем национальный гнет давлел не только над низшими чинами, но и над младшим и средним офицерством из славян, несколько слабее в отношении венгров и евреев. Дальнейшую реакцию в войсках лаконично и предельно точно описал граф Генрих Клам-Мартиниц, известный военный и государственный деятель эпохи "двуединой монархии" и ее распада: "Если в 1915 г. дезертирство было фактом, в 1916 - угрозой, то с 1917 оно приобрело характер эпидемии".
Подавляющее большинство фронтовиков бежали с Русского фронта, где австриякам доставалось крепче всего, затем шли Румыния и Балканы, и только потом - Итальянский фронт, где армия "K und K" держалась успешно. Почти половина ушли в побег из запасных частей, из отпусков или из госпиталей. Кстати, именно в госпитале в 1915 г. "впаяли" попытку дезертирства рядовому 91-го пех. Будеёвицкого полка Ярославу Гашеку (затянул лечение травмы колена) и осудили на три года в крепости, заменив отправкой на фронт. В будущем писатель с эпатажем называл себя "самым известным чешским дезертиром".

Считается, что не менее 230 тыс. его товарищей по несчастью со всех концов "двуединой" выбрали для себя такой выход из Великой войны. Немало оказалось дезертиров и среди бывших австро-венгерских военнопленных в России, освобожденных после Брест-Литовского договора и не пожелавших возвращаться в части; эти в значительной степени не учтены, многие остались на новой Родине.
Карательные меры военных и государственных властей против дезертиров были в Австро-Венгрии очень жесткими. По-старчески упрямо цепляясь за жизнь, "двуединая" монархия Габсбургов шла на самые крайние меры против любого явного или мнимого посягательства на ее власть. Военно-уголовный кодекс 1855 г. практиковал широкое использование военных трибуналов (Standgerichte), в которых права подсудимых на защиту были минимальны, что приводило к очень большому количеству смертных приговоров и казней. Особенностью трибунала было, что на рассмотрение дела выделялось не более 72 часов (не успели - подсудимого забирал обычный военно-полевой суд), а возможных приговоров реально предусматривалось два - смертный и оправдательный. К расстрелу было приговорено 1 175 военнослужащих, приведено в исполнение - 1 148 приговоров, самый больший процент среди всех стран-участниц Первой мировой (двое осужденных на смерть предпочли убить себя сами, один умер, 21 чел. "отмазали" высокопоставленные покровители, трое сумели сбежать и не попались). Дезертиров среди казненных - 430 душ, возможно больше: не по всем приговорам сохранились документы. Помимо "императорских и королевских" военюристов, усердно трудившихся, чтобы поставить к стенке беднягу-служивого, на фронте распространились внесудебные убийства офицерами и полевой жандармерией провинившихся по их мнению солдат, в т.ч. подозреваемых в попытке бегства. Славянская и венгерская историография в национальном гневе исчисляют такие вопиющие случаи тысячами, венская, под кофе и штрудель, - скромнее, "многими сотнями".
Так они бежали, их ловили, они погибали... Однако дезертиры "K und K" нашли в бегстве способ выживания и борьбы за свои права, сродни скорее средневековому, чем "цивилизованному" XX в. С 1915 г. в труднодоступных лесистых горах, в первую очередь в Хорватии, в словацких Татрах, в венгерских и галицийских Карпатах стали появляться первые вооруженные группы дезертиров из австро-венгерских войск, скрывавшиеся от преследования властей и промышлявших разбойничеством. К 1918 г. этих дезертиров-нонконформистов, готовых отчаянно бороться за свою жизнь и свободу, насчитывалось более 50 тыс. в хорватских горных массивах, до 10 тыс. в Венгрии и Галиции, столько же в Боснии, в Словакии - примерно 5 тыс., в Моравии - 4 тыс., и еще по мелочи в других непроезжих районах империи. Самоназвания различались: "Зеленый кадр", "Зеленая гвардия", "Лесная гвардия" и т.п.

Весьма колоритный отряд "зеленых гвардейцев" в хорватских горах зимой 1917-18 гг. Судя по всему, это - организованные революционные дезертиры, внешне больше походят на солдат, чем на разбойников.
Среди них были даже офицеры и военные авиаторы - например, весьма живописный персонаж: бывший пилот, прожженный авантюрист и отчаянный женолюб унтер-офицер Йован Станисавлиевич (Иво Чаруга), которому посвящен один из первых фильмов независимого хорватского кинематографа (Caruga, 1991). Некоторые из этих лесовиков под влиянием Русской революции придерживались идеологии наивного социализма: "Против злых и богатых, за добрых и бедных, все забрать и поделить, а не получится - хоть погулять напоследок!"; эти были наиболее организованными и боеспособными. Другие стали обычными разбойниками, от их грабительских набегов стонало местное население. Большинство просто выживали, пробавляясь где воровством, где собирательством. Но они контролировали обширные территории и перед внешней угрозой умели консолидироваться и давать отпор. Когда в феврале 1918 г. видный австро-венгерский военачальник "покоритель Ловчена (знаменитая гора в Черногории, оплот обороны ее столицы в 1916 г.)" Стефан Саркотич решил покончить с "лесными бандитами" и двинул против них 25 тыс. войск и жандармерии, карательная экспедиция столкнулась с отчаянным сопротивлением "зеленых", нежеланием новобранцев идти против своих братьев и вернулась по сути ни с чем. Командующий Итальянским фронтом Светозар Бороевич фон Бойна после этого заметил: "С ними уже надо договариваться, а не воевать".
После распада Австро-Венгерской монархии наиболее пассионарные "зеленые кадры" пополнили ряды разнообразных националистических или революционных формирований, большинство мирно разошлись по домам, а те, кто выродился в обычных уголовников, были рано или поздно ликвидированы властями... Как тот же экс-пилот, дерзкий грабитель и покоритель женских сердец Иво Чаруга, повешенный уже в Королевстве Югославия в 1925 г.

Иво Чаруга, одетый как "господин из общества" под судом и конвоем югословенских жандармов.
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ.
Вероятно, читатель полагает, что совершенный achtung с дезертирством был в Австро-Венгрии? А вот и нет, по сравнению с полным "тамам" (tamam, турецкое идиоматическое выражение, обозначающее абсолютное окончание чего-либо) в Османской империи - это еще "сказки Венского леса"!
Турки - храбрые воины и хорошие солдаты. Но если даже в квадратный толстый череп пруссака году на третьем Великой войны закрадывалась мысль: "А какого... вурста я тут делаю?", то сметливый анатолийский крестьянин подумал примерно то же гораздо раньше.
Из османской армии к середине 1918 г. по самым приблизительным подсчетам подались в бега более 500 тыс. "аскеров", т.е. 17% от всех призванных, больше, чем в любых других вооруженных силах Первой мировой. Понимая бедственное положение этих в абсолютном большинстве темных и нищих селяков, оставивших семьи без кормильцев, бесправного "хайвана" ("скотина", оказывается начальство так и турецкого солдата называло!) под сапогами "бея-эфенди" офицера - и не приведи Всевышний оказаться каким-нибудь армянином или курдом! - их сложно упрекнуть.

Однако лучше об этом скажет турецкий военный историк Мехмет Бешикчи: "Имеющихся в архивах статистических данных о дезертирстве в Османской империи... достаточно, чтобы показать впечатляющие масштабы и серьёзность этой проблемы в ходе войны... Началось все еще на раннем этапе. Например, германский консул в Эрзуруме сообщил в телеграмме от 2 июня 1915 года, что треть войск, сосредоточенных в лагерях Третьей армии в Восточной Анатолии, заболели, а «ещё треть - дезертировала по пути на службу». На Кавказском фронте, после того как Русская армия разгромила османские войска, только в Третьей османской армии к зиме 1916 года насчитывалось около 50 000 дезертиров.
В чем же истоки проблемы? Во время Первой мировой войны Османская империя по-прежнему оставалась архаичным многоэтническим и многоконфессиональным образованием. Рассматривая этнический состав дезертиров, мы видим, что среди них представлены практически все этнические и религиозные группы. Например, случаи дезертирства среди армян, по-видимому, были широко распространены на начальном этапе войны. Это дало османским властям повод называть их «неблагонадежными» и использовать в разоруженных трудовых батальонах (и геноцид развязать - М.К.). Дезертирство среди османских греков также было частым явлением; в их народном жаргоне даже появилось особое название для дезертиров: «чердачные батальоны», обозначавшее беглецов, которые скрывались в частном жилом секторе. Сильно было сопротивление обязательной военной службе среди османских евреев... Частым явлением было дезертирство среди османских арабских солдат, особенно во второй половине войны. Однако более значительная доля дезертиров приходилась на анатолийских мусульман... - это преимущественно турки (большинство), курды и, в меньшей степени, черкесы и лазы. Эти группы составляли не только большинство населения Османской империи, но и основную часть рядового состава османской армии. (...)
Ни решительное осуждение дезертирства со стороны османских властей и общественных деятелей, ни суровые уголовные законы и ссылки на исламские традиции, запрещающие уклонение от военной службы, не смогли предотвратить массовость дезертирства. Наиболее распространёнными причинами, упоминаемыми в протоколах допросов дезертиров, захваченных властями, а также в сообщениях тех, кто попался британцами в Ираке и Палестине, были: физическое и психическое истощение, вызванное тяжёлыми условиями на фронте; отчаяние от затягивания войны; жестокое обращение офицеров; невозможность получить отпуск домой; практически неограниченное продление срока службы. Хотя почти все захваченные дезертиры сожалели о содеянном, они заявляли, что бегство - крайняя мера, когда условия становятся невыносимыми...

Большую часть дезертиров долго или вообще не могли поймать из-за слабости полицейских и комендантских сил на местах. Многие из беглых солдат, чтобы выжить, стали разбойниками, собираясь в вооружённые банды численностью от дюжины до нескольких сотен человек. Они обычно формировались на основе общих этнических или соседских связей, представляли серьёзную угрозу безопасности по всей Анатолии, которая достигла катастрофического уровня на позднем этапе войны. 1 июня 1918 года министр внутренних дел Мехмед Талат-паша разослал телеграмму..., в которой жаловался на убийства, совершаемые бандами дезертиров-разбойников практически во всех уголках страны. На деле же наиболее распространёнными преступлениями дезертиров были воровство и грабежи сельских и городских жителей.
Для решения проблемы дезертирства дряхлеющее османское государство пыталось реорганизовать жандармерию, но успеха не имело. Дезертиры, скитавшиеся по османским деревням, не воспринимались местным населением как изгои; напротив, многие из них могли легко укрыться недалеко от своих деревень, получая от родственников и соседей кров и еду. Османские военные власти часто отмечали поддержку их местным населением и сетовали на то, что это способствовало дальнейшему дезертирству.
Даже государство относилось к дезертирам не как к настоящим преступникам. Когда потребность в военной живой силе стала крайне острой, а число дезертиров – столь большим, османские власти искали способ восстановить дезертиров на службе. Хотя военное право предусматривало для них смертную казнь, власти обычно приговаривали к ней многократных рецидивистов и тех, кто совершил тяжкие преступления за время отсутствия в части. Зато широко практиковались старинные воспитательные формы наказания: избиение палками или заключение в "зиндане", а с 1916 г. - почти исключительно телесные наказания. Что еще более важно, от имени султана были объявлены три всеобщие амнистии для дезертиров. Первая из них - уже 6 августа 1914 г., всего через три дня после объявления мобилизации. Вторая - 28 июня 1915 г., а третья - в последний год войны, 15 июля 1918 г. (...) 21 сентября 1918 г. Министерство внутренних дел разослало всем местным административным единицам объявление, что добровольно сдавшиеся дезертиры могут быть зачислены в жандармы при условии соответствия необходимым критериям. Такие "обратные крысы" (ters sıçan), как их прозвали в народе, активно использовались для поимки других дезертиров и борьбы с вооружёнными бандами в анатолийских провинциях.

Жандарм-"крыса" гонит пойманных дезертиров, тыл Кавказского фронта, 1917 г. На переднем - русская фуражка, вероятно - мародерская добыча.
Эти меры не были полностью неэффективными, но... до самого конца войны дезертирство оставалось одним из основных факторов, подрывавших боеспособность османской армии на поле боя и бросавших вызов государственной власти в тылу. На момент подписания Мудросского перемирия 30 октября 1918 г. численность действующего рядового состава составляла 560 000 человек. К тому времени общее число дезертиров было практически таким же, если не большим" (Mehmet Beşikçi. "Between Acceptance and Refusal - Soldiers' Attitudes Towards War - Ottoman Empire/ Middle East")
БОЛГАРИЯ.
"Как коммунист, я враг империалистической войне, но как тяжело раненный фронтовик, я гнушаюсь выступать в том же зале, что и товарищ, который дезертировал, чтобы спасти свою шкуру", - такими словами знаменитый болгарский поэт-импрессионист левого толка Гео Милев в первые послевоенный годы выразил господствующее у общественности этой маленькой балканской монархии отношение к бегству с фронта. В Болгарии вообще сильны военные традиции и пиетет по отношению к солдатской службе. Германофильская элита страны во главе с царем Фердинандом из Сакс-Кобург-Готской династии втянула ее в мировую войну фактически в угоду своему раболепному преклонению перед "старшими немецкими и австрийскими родственниками". Однако в народе и армии широко бытовали заблуждения о "восстановлении справедливости" и "объединении болгар под одной короной": в недавней Второй Балканской "межсоюзнической" войне 1913 г. бывшие соратники по разгрому Османской империи сербы и греки жестоко обкорнали территориальные приобретения болгар в Македонии и Фракии, а примазавшиеся румыны отхватили Добруджу.
Потому общее число дезертиров на 650 тыс. мобилизованных в Болгарии, несмотря на общие для Первой мировой тяготы и ужасы, на первый взгляд невелико - около 7 000 чел. Однако даже это равно численности нескольких пехотных полков по штатам военного времени.

Из двух основных болгарских фронтов - Салоникского и Румынского - некоторый приоритет по числу беглецов держит последний, где болгарские войска встретились в бою с Русской армией. Не исключено, нашлись те, кто ни за что не хотел стрелять в "братушек" и бежал, но - не стоит обольщаться - их чуть выше статистической погрешности.
Главные причины дезертирства в Болгарии, если изложить конспективно: преимущественно крестьянская армия, из боя почти не выходит (с учетом Балканских войн) с 1912 г.; экономика страны, лишенная войной рабочих рук, которую к тому же интенсивно "доят" союзные немецкие державы, разваливается - семьи солдат на грани выживания. Конечно же, "страшно, убивают" - у противника подавляющее огневое превосходство; но, представляется, для болгар это был не главный фактор, иначе с позиций драпануло бы куда больше 7 тыс.
А вот выживать на тех позициях стало живым страданием. Командующий Действующей армией генерал Никола Жеков докладывал: "Во время настоящей инспекции я имел самую удручающую возможность констатировать на местах бедственное положение войск, которое постоянно и угрожающе ухудшается. Питание, особенно недоброкачественный хлеб, недостаточно, чтобы удовлетворить потребности тех, от кого отечество требует сегодня нечеловеческих усилий. Части живут день за днем, доедая свои последние запасы или занимая продукты в небольшом количестве и под процент с германских складов. Хлеб, норма которого увеличена по моему приказу до 900 гр. для бойцов, и до 700 гр. для военнослужащих в тылу - кукурузный с примесями. Мясо выдается дважды, а в некоторых частях и один раз в неделю. По-настоящему части живут только овощами с разбитых ими огородов позади позиций. Но положение армии в отношении обмундирования еще более бедственно. Солдаты голы и босы, в некоторых частях не имеет обуви каждый четвертый солдат, а их одежда вообще превратилась в рванину. В 54-м пех полку, определенном для участия в контратаке, я видел босых солдат, которые должны были штурмовать позиции врага по острым камням. Шинели так изодраны и истлели, что даже сейчас, летом, не могут согревать в горах на высоте 2 000 метров, как в случае с 3-й Балканской дивизией. Имеются случаи, когда вместо фуражек солдаты носят какие-то обрывки от мешков с песком. При этом они стыдятся своего вида и пытаются ремонтировать одежду, как могут. Но то, что летом, хоть и совсем изодрано, еще может прикрыть тело, в сезон осенних дождей совершенно превратится в лохмотья и не сможет согреть истощенного от долгого сидения в сырых траншеях и отсутствия достаточной пищи солдата." (По С. Груев. "Корона от тръни". София, 1991). От такого сбежишь!
Дезертиров ловили. Военное законодательство предусматривало наказание, звучащее на болгарском с неподражаемым колоритом: "строг доживотен затвор в окови" - пожизненное тюремное заключение строгого режима, да еще в кандалах (явно наследие османского владычества). Однако, как писал болгарские политический деятель той поры Петър Пешев: "Пожизненное заключение в Болгарии на практике равняется одному-двум годам до ближайшего помилования или амнистии" (П. Пешев. "Историческите събития и деятели...". София, 1993). Болгарские военные юристы понимали это не хуже, и обычно отсрочивали исполнение приговора "до после войны", заменяя возвращением на позиции. Был ли расстрелян хоть один болгарский дезертир, найти достоверную информацию не удалось; а из отправленных обратно на фронт под строгий надзор командующих офицеров погибли очень многие.
Единственный зафиксированный приказ "расстреливать дезертиров" отдал в последние дни войны начальник штаба генерал Бурмов, при чем его "заградотряды" стреляли просто по деморализованным отступающим войскам и спровоцировали их на ответное насилие.
Отнюдь не исключительная специфика дезертирства в Болгарии заключалась в том, что после прорыва войсками Антанты Салоникского фронта в сражении при Добро Поле 14-16 сентября 1918 г. и полного коллапса болгарской обороны также начался процесс "самодемобилизации" - относительно умеренный, от 30 тыс. чел., но усугубленный отчаянными солдатскими революционными выступлениями.

Считать ли "самодемобилизовавшихся" дезертирами - военно-судебные органы каждой из проигравших стран решали по-своему, в основном: не считать! Болгарские власти опять не оказались исключением и никаких репрессивных мер против разошедшихся по домам до официального увольнения в запас солдат (на фоне крайне жестокого подавления Владайского/Солдатского восстания и волнений в частях) не принимали.
____________________________________________________________Михаил Кожемякин.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
|
|
</> |

 Надёжная внутренняя связь на предприятии: всё о VoIP-шлюзах, IP-телефонах и АТС МиниКом
Надёжная внутренняя связь на предприятии: всё о VoIP-шлюзах, IP-телефонах и АТС МиниКом  Без названия
Без названия  Наливные грузы — виды, особенности, организация и документация
Наливные грузы — виды, особенности, организация и документация  Пришла пора платить по векселям (с)
Пришла пора платить по векселям (с)  Бывают странные сближенья
Бывают странные сближенья 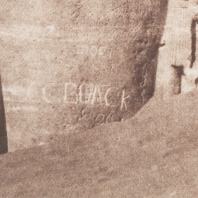 Абу-Симбел. Европейские надписи 1800-1830-х годов на колоссах, откопанных
Абу-Симбел. Европейские надписи 1800-1830-х годов на колоссах, откопанных  30 потрясающих уличных фотографий Пьерпаоло Папини Папи
30 потрясающих уличных фотографий Пьерпаоло Папини Папи 



