ЛЕТЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - 66
 lucas_v_leyden — 23.06.2011
В середине 1920-х годов (точная дата, увы,
вряд ли будет когда-нибудь установлена), на одном из гебдомадерных
(вслед за Д. Пинкертоном я тоже считаю этот термин царем всех слов)
заседаний прославленных «Никитинских субботников» двое завсегдатаев
вели безмолвный разговор, обмениваясь репликами на листочке бумаги,
вырванном из небольшого альбома. «Кто эта эффектная дама?», -
спрашивал джентльмен. «Спина хороша, плечи недурны – остальное
вздор», - отвечала ему леди, быстрым, округлым почерком, тем же
карандашом. «Я, собственно, интервьюировал насчет фамилии и «соц.
положения». А остальное я разберу самостоятельно», - писал далее
педант. Его собеседница чуть добавляла аффектации в диалог: «Во1-х,
не разберешь. Во 2-х – дурак: зачем у бабы фамилия?», но ее партнер
твердо гнул свою линию: «Актриса? Поэтесса?».
lucas_v_leyden — 23.06.2011
В середине 1920-х годов (точная дата, увы,
вряд ли будет когда-нибудь установлена), на одном из гебдомадерных
(вслед за Д. Пинкертоном я тоже считаю этот термин царем всех слов)
заседаний прославленных «Никитинских субботников» двое завсегдатаев
вели безмолвный разговор, обмениваясь репликами на листочке бумаги,
вырванном из небольшого альбома. «Кто эта эффектная дама?», -
спрашивал джентльмен. «Спина хороша, плечи недурны – остальное
вздор», - отвечала ему леди, быстрым, округлым почерком, тем же
карандашом. «Я, собственно, интервьюировал насчет фамилии и «соц.
положения». А остальное я разберу самостоятельно», - писал далее
педант. Его собеседница чуть добавляла аффектации в диалог: «Во1-х,
не разберешь. Во 2-х – дурак: зачем у бабы фамилия?», но ее партнер
твердо гнул свою линию: «Актриса? Поэтесса?».Благодаря исключительной бережливости владелицы литературного салона в нашем распоряжении есть еще несколько образцов этого жанра. Вот, обращаясь к другой леди (лицо которой, как и в первом случае, скрыто шелковой полумаской), тот же господин пишет характерными своими угловатыми буквами: «Или у Вас дурное настроение. Или я в немилости. Волнуюсь. Дрожу», на что получает ответ: «У меня хорошее настроение и Вы в милости. Я рассеяна». Характернейшая деталь: в последнем слове она делает простительную ошибку: «разсеяна» - даже не вполне ошибку, а анахронизм, так писали еще десятилетием раньше, - но ее безжалостный собеседник перечеркивает несчастное «з» и сверху вписывает правильный, глухой, свистящий. В другой раз та же дама интересуется у него: «Что с Вами? Голова болит?», на что наш герой с тяжеловесной прытью отвечает: «Заботливость Ваша исцеляет не токмо боль головную, но и всякую немощь человеческой натуре свойственную». Увы, переменчивая леди останется для нас загадкой, а вот педант с головной болью – отнюдь нет, ибо это наш сегодняшний герой, Эзра Ефимович Левонтин (1891 – 1968).
Родился он в экзотическом для русского поэта месте – в Тегеране, где отец, наградивший его библейским именем, служил инженером на спичечной фабрике Лазаря Полякова (двоюродного дедушки чудесного поэта, о котором мы вспоминали несколько лет назад). Кстати сказать, смутная история с этой фабрикой (датская концессия на спичечную монополию, обман, афера, разорение) оказала прямое влияние на биографию нашего героя – в 1892 году выяснилось, что спички там лишь побочный продукт и едва ли не ширма в сложном финансовом мероприятии и инженер был уволен, переехав с семьей во Францию. «В Париже протекло мое раннее детство; французский язык и был моим родным языком, да, пожалуй, таковым и остался», - вспоминал Эзра четверть века спустя.
После нескольких лет французской жизни семья вернулась в Россию: отец получил место в Рязани. В той же автобиографии (забегая вперед, скажу, что это – единственный разысканный документ такого рода, вышедший из-под пера нашего на диво скрытного персонажа) он упоминает ее без приязни: «Помню только весьма мучительный для меня период – от родного французского языка к нашему русскому. Город, в котором я с родителями поселился был скверный губернский город, нудный и грязный: Рязань, почему-то воспетый Тарасом Мачтетом».
Последнее для нас, кстати сказать, не удивительно – не приглянувшаяся Левонтину родина грибов с необычным устройством зрительного аппарата, сыграла исключительно благотворную роль в жизни не только Мачтета, но и хорошо нам знакомых Натальи Кугушевой, Дмитрия Майзельса и некоторых других поэтов: бойкость местного союза поэтов в сочетании с известной щедростью администрации позволила издать в Рязани в 1918 – 1922 годах несколько альманахов, интересных по содержанию и оформлению. Но все это еще впереди – а пока наш герой, едва обретя самостоятельность, старается бежать.
«В городе было две гимназии, собор, театр и мало <�так! – вероятно, «немало» или «много»> длинных серых заборов. Тех самых, которые определил Чехов: «от такого забора не убежишь». Там в 1909 году окончил гимназию, потом опять уехал в Париж, учился там на faculté-de-lettres <�филологическом факультете>, вернулся в Москву, кончил в 1913 году юридический факультет, - опять уехал в Париж, учился, бродил по Европе и с 1915 г. вернулся в Россию в Москву».
Это пишет человек, практически вытесненный из литературы, и в годы, когда живое поэтическое прошлое могло настичь и некстати напомнить о себе, поэтому сухая канва биографизма нуждается в некоторых пояснениях. В 1910-м году Левонтин дебютировал в «Студенческом литературном сборнике «Отклики»», напечатав стихотворение «Осенняя песнь», мало чем выделяющееся в негромком окружении ювенилий будущих филологов. Об эстетических ориентирах его свидетельствует выбор журнального покровителя – между тем как сверстники обращаются за оценкой своих дебютных стихов к Блоку, Брюсову, Сологубу и Вячеславу Иванову, он пишет самому, кажется, немузыкальному из крупных русских писателей – В. Г. Короленко (не забудем, впрочем, что ему же в свое время адресовался с похожей целью Лазарь Берман). Вероятно, первое письмо с просьбой прочитать и оценить, было написано зимой 1912/1913 года, но оно пропало: архив Короленко раздроблен между хранилищами и сбережен не безупречно. Но второе сохранилось:
25 февраля 1913 «Недель 5 тому назад я послал Вам несколько своих стихотворений с просьбой оценить их, т.к. от Вашего ответа, - ответа наиболее (из живых) дорогого мне писателя – в значительнейшей степени зависят мои литературные шаги: бросить или продолжать пытаться. – И вот теперь, Владимир Галактионович, предполагая, что за массой работы и интересов Вы забыли о моих стихах я повторяю Вам свою просьбу, более подробно изложенную в моем первом письме» (Подписано: Москва, Пречистенка, Мансуровский пер., д. 13, кв. 6. Студ. Эзре Ефимовичу Левонтину)
У Короленко была приятная для будущего архивиста манера набрасывать на письме конспект своего ответа, но в этом случае, увы, он сдержал себя. На этом и без того не слишком активные попытки нашего героя войти в литературную жизнь, по сути, прекратились на несколько лет – из-за крайне малой поэтической продуктивности и по врожденной флегматичности характера.
«Писать стихи начал рано, но не серьезно – не писал годами. <�…> Печатался в общем мало. Мои интересы двоились между литературой и другой областью, ставшей моей профессией: уголовным правом. И в той, и в другой области я остался верен умозрительной философии, никогда не исповедуя материалистических учений. С 1915 – 1916 г. я внутренне осознавал себя, как символиста, и этому поэтическому учению верю и поныне. Своим учителем и духовным водителем считаю А. Блока – единственного русского символиста из всей плеяды русских поэтов, называющих себя символистами».
У меня нет никаких сведений о его занятиях в 1914 – 1918 годах; более того, и он, и его семья отсутствуют в московских адресных книгах этих лет. В самом начале 1918 года он обращается за напутствием к более подходящему адресату – Брюсову, но не вполне понятно, каким образом: в идеально сбереженном брюсовском архиве нет ни писем, ни стихов Левонтина, между тем как сохранился недвусмысленно адресованный ему ответ мэтра:
29 января 1918 «Ваши стихи я читал; постараюсь прочесть и те, которые Вы мне хотели доставить позже. Если желаете знать мое мнение, я просил бы Вас быть у меня в понедельник 18 (ст. стиля 5) февраля, между 5 и 6 ч. дня. Но, так как до понедельника времени еще много и распределение моих дней может измениться, было бы лучше, если бы Вы мне напомнили об этой встрече в воскресенье 17-го (4-го) после моей лекции в Унив. Шанявского (если, конечно, Вы предполагаете на этой лекции присутствовать» (адрес: Гражданину Эзра Левонтину, Арбат, Дурновский пр., дом № 6, кварт. № 2).
Не вполне ясно, осуществилась ли эта встреча, но доподлинно известно, что вскоре после описываемых событий наш герой уехал на Украину. О следующих двух годах его жизни мы не имеем практически никакого представления. В его curriculum vitae значится выпущенная в Киеве литографированным способом книга «Рыцарь Верный»; с его ли слов или из других источников она разошлась по библиографиям и дезидератам, но ни одного экземпляра мне разыскать не удалось. В маленькой заметке для так и не вышедшего словаря русских писателей он перечисляет украинскую периодику, в которой участвовал - «Борьба», «Грядущее», «Вестник железнодорожника», «Киевское эхо» - часть этих изданий никогда не существовала (или же не сохранилась вообще), а в некоторых следов его не находится. В довольно тщательно описанной киевской (а также харьковской и одесской – он называл эти три города) литературной жизни он тоже, кажется, участия не принимал. Таким образом, весь этот двухлетний южный вояж представляет собой одну сплошную загадку – вряд ли столь незаметная литературная деятельность могла обеспечить ему пропитание; по большевистской линии (как Нарбут, в те же годы бороздивший те же места) он явно не продвигался: некоторые его записочки конца 1920-х подписаны «беспартийный поэт». Вряд ли можно предположить, что недавний выпускник Сорбонны мог, лавируя между Петлюрой и Махно, зарабатывать юридической практикой… родственники? латифундии? С другой стороны, годами позже, он обмолвился: «Я писал много: стихи, критику, статьи по уголовному праву и кооперации, рассказы <�…>», - не значит ли это, что он зарабатывал малозаметной, а то и анонимной нехудожественной прозой? В любом случае, малороссийские каникулы заканчиваются к 1920-му году (по его собственному признанию), а с 1921-го он осторожно погружается в бурную московскую литературную жизнь.
Участвует в ней он, надо сказать, по преимуществу с административной стороны: представительная внешность или обстоятельные манеры довольно быстро возносят его в товарищи председателя объединения «Литературный особняк»; беспристрастная хроника чаще фиксирует его участие в заседаниях и коллективных поздравлениях, нежели в литературных вечерах, хотя случаются и последние: так, 22 марта 1921 года он выступает в паре с хорошо нам памятным Захаровым-Мэнским. В том же году он предпринимает еще одну попытку обратить на себя внимание полтавского затворника:
15 сентября 1921 «Я понимаю что было бы очень бесцеремонно утруждать Ваше внимание просьбой дать отзыв о моих произведениях только по одному тому, что Вы – знаменитый Короленко, а я – еще нуждающийся в указаниях литератор.
Но в данном случае речь идет о сценической разработке Вашего очерка. Я взял для выполнения этого – приемы Вашему творчеству чуждые, но казавшиеся мне неизбежными для выявления того романтического двигателя, в котором вся мощь Вашего очерка»
К письму был приложена и сама стихотворная переработка: «Мгновенье. В одном акте» - произведение чрезвычайно унылое и, кажется, литературной судьбы не имевшее. Вообще, надо сказать, большинство известных мне попыток Левонтина выйти за пределы стихотворчества кончались ничем: ни пьесы, ни какие-то синтетические оратории («то, что я задумал, слишком много для человека, не знающего сцены насквозь»), ни сборники рассказов в свет не выходили – только тончайший ручеек стихов – два в одном альманахе «неоклассиков», два в другом, один – в третьем.
Несмотря на вялую карьеру и небольшую известность, был он обидчив и самолюбив до крайности. Юридическое образование позволяло ему числиться членом коллегии защитников (прямых выгод это не давало, но фининспектор не приставал); иллюзия литературной независимости располагала к надменности. Пустяковая оплошность, допущенная весьма мирволящей к нему Евдоксией Никитиной вызывала обильную отповедь:
11 апреля 1924 «Многоуважаемая Евдоксия Феодоровна!
Чрезвычайно огорчен, что не смогу выполнить поручения Вашего распространить три билета на открытый вечер нашего О-ва.
Дело в том, что общие литературные знакомые получат билеты и без меня при входе или у более близко-живущих лиц; что касается моих личных знакомых, то они, к сожалению, фиксировали свое внимание на имевшем быть моем участии на вечере 20-го марта, как это было намечено в заседании 5 апреля. Узнав же из программы, что я в вечере не участвую, мои друзья пока что воздержались от приобретения билетов.
Поэтому – и так как на «субботнике» 12.IV я, к величайшему сожалению своему, быть не могу – я вынужден экстренно вернуть билеты, дабы бесцельное их у меня пребывание не помешало их продаже своевременно.
Почтительно Вам преданный
Эзра Левонтин»
«Никитинскими субботниками» в основном и ограничено его участие в литературной жизни во второй половине 1920-х годов; спорадически он появляется в московском отделении «Всероссийского союза поэтов», в частности, в конце 1928 – начале 1929 года несколько раз оппонирует выступающим. Вообще, юридическое образование оказалось небесполезным для московской культурной среды – так, в 1926 году, когда писатели в рамках промо-тура книги Л. Гроссмана «Преступление Сухово-Кобылина» собирались инсценировать судебный процесс над покойным драматургом, нашему герою досталась роль обвинителя, за которую он взялся с пылом: сохранилось энергичное письмо Левонтина к Гроссману с подробным распределением ролей и хронометражем действа.
В 1928 году, практически в последние минуты советской издательской вольницы под маркой «Никитинских субботников» выходит его второй и последний стихотворный сборник – «Фелука» (другие его книжки, порой возникающие даже в лучших библиографиях, фантомны; макет еще одной – «Романтическая тетрадь» - сохранился в архиве). Для историка полиграфического дела в РСФСР было бы жгуче интересно узнать, где «Мосполиграф» раздобыл для этой книги такую бумагу – европейскую кремовую верже с необычным рисунком. Мы же констатируем исключительно удачную внешность сборника – от изящной обложки Н. Вышеславцева (где нарисована фелука, плывущая с оранжевым парусом под желтыми облаками) до рельефных виньеток в тоне сепии, окаймляющих текст. Большая часть включенных в книгу стихотворений помечена концом 1910-х – началом 1920-х годов; посвящения и эпиграфы из Блока, Сологуба, Пастернака, Шенгели задают литературные координаты, между которыми разворачивается лирическое действие книги; ее антисовременность (если не считать рифмованного некролога Сакко и Ванцетти) была почти вызывающей – несмотря на это, никаких последствий для автора она не имела – кроме забвения.
В конце 20-х же окончательно определилось его положение в литературе; четыре десятилетия спустя, в очередной раз пытаясь критическим отзывом помочь приятелю, он с грустью заметит:
«Я пишу Вам, а не пытаюсь дать статью, т.к. могу повторить, вслед за моим покойным другом Шенгели, что я «в переводчики проданный поэт» и – прибавлю «проданный в переводчики критик». Мои переводы печатаются невозбранно, мои рецензии и – изредка – статьи идут лишь в тех случаях, когда я пишу о переводах. Видимо, мне вредит, что я знаю довольно много языков»
Список стихов, переведенных им, неимоверен; реестр освоенных языков – внушителен, каталог поэтов – неисчерпаем. Для периода 1928 – 1935 сделать примерную выборку его героев проще простого – перечислю эти имена: Ата Нияз-Оглы, М. Афаунов, А. Будаев, Айс. Декдян, Клыч Дурды, Клыч-Оглы Дурды, А. Кекилов, Д. Клычев, И.-Х. Курбан-Алиев, М. Курманалиев, А. Магомадов, Мола-Мурт, Р. Нигмати, М. Пшеноков, Г. Селям, П. Шекихачев, А. Шогенцуков, Т. Янаби.
Таким образом, спасительный выход, благородное ответвление любимого дела оказалось ловушкой или тупиком – вместо авторов, которых хотелось переводить ему самому (в автобиблиографии конца 20-х он говорит о себе: «поэт и переводчик Бялика, Шнеура, Черниховского»), он вынужден, обслуживая политическую потребность, воодушевлять национальные самолюбия порабощенных окраин. Редкие его критические и теоретические выступления (прежде всего – в журнале «Художественная литература») также посвящены переводам, причем по преимуществу с причудливых языков – и, с каким-то мазохистическим смирением, Левонтин цитирует промахи автора, взявшегося за обрыдлую национально-освободительную тему:
В мечеть Ахрет-султана
Ходила Райхан молиться,
Вздыхала и плакала,
Советскую власть ненавидела
Спасительная скрытность его достигает в 1930-е годы высшего накала: доподлинно известно, что у него была жена и дочь, но их имен история не сохранила. Деля время между чеченскими переводами и литературной критикой, он ограничивает свой круг общения двумя-тремя ближайшими друзьями. В первую военную зиму один из них получает от Левонтина весточку:
18 апреля 1942 «Я – в Свердловске. Здесь довольно большая группа писателей.
Как водится в писательских кругах, внутри писательского мира строгие разграничения по званиям и рангам.
Из «знаменитых» здесь Форш, Ромашев, Гладков, Караваева, Флит, Шагинян, Гарин
Из «известных» - Марич, ленинградец Илья Садофьев, Евг. Пермяк и еще кое-кто»
Из скромных переводчиков – Звягинцева и я.
Особой работы, если говорить en loyal militaire, нет. Больше разговоров, совещаний, обсуждений. Кто пишет надписи к плакатам, кто скэтчи, либо пытается провести книжку в ГИЗ’е (удается немногим).
Жить литературой трудно. Приходится тряхнуть стариной и служить.
Склока, сплетня ширится в полном объеме. Как в мирное время»
(Изумительна эта быстротечность советской искусственной знаменитости; право, литературные иерархии, установленные, например, Брюсовым, продержались дольше).
Послевоенная его судьба есть упражнение в незаметности. Избирательность его переводческих объектов была ослаблена и к литературе вольных племен прибавилась западноевропейская; с другой стороны, ему, похоже, удалось вдохновиться новой финно-угорской поэзией – по крайней мере, переводы с марийского удачны и энергичны (соответствие их оригиналам я, конечно, оценить не могу).
Левонтина, кажется, не любили. Охочий до грязи советский околописательский фольклор сохранил и обидную эпиграмму Тараховской («Отношусь к вам, Эзра, лично / Я довольно безразлично, / Потому что, Левонтин, / Вы кретин») и скверную переделку его фамилии, предпринятую какими-то казахскими самородками, оттесненными от легких денег:
«Подошла тем временем пора очередной Декады казахского искусства и литературы в Москве. Событие в жизни республики выдающееся, эпохальное. Надо сказать, что это были удивительные зрелища, западавшие в память надолго. <...>
«Зазеркалье» же подготовительных будней поражало низменной суетой. Из Москвы прибывали полчища переводчиков-скорохватов. Работали, естественно, исключительно по подстрочникам. Фамилия одного из них памятна до сих пор – Эзра Левонтин. <�Н. И. > Титов по своему обыкновению моментально переиначил ее в «Блевонтин»..... Переводилось, издавалось буквально все, деньги тратились колоссальные. Само собой, это было время небывалых заработков. Шальных гонораров не огребал только ленивый».
Несмотря на это, когда в 1956 году был устроен его творческий вечер («в связи с его шестидесятипятилетием») оказалось, что круг лиц, относящихся к нему с приязнью, гораздо шире, чем можно было предположить. Вел вечер П. Антокольский, а среди заявленных чествователей (хоть сам юбиляр и настаивал: «мой вечер отнюдь не юбилейный, и обо мне можно говорить правду, даже горькую правду») оказались столь несходные люди как А. И. Безыменский, Д. Д. Благой, Л. П. Гроссман, А. И. Дейч, В. К. Звягинцева, С. С. Наровчатов, И. Н. Розанов, и С. В. Шервинский.
О последующих годах его у нас почти нет представления. Продолжал переводить и печататься. Жил в писательском доме вблизи метро «Аэропорт». Публиковался в «Иностранной литературе». Был столь же обидчив и мнителен («Меня не удостоили приглашением, я о вечере ничего не знал и лишил себя удовольствия прослушать Ваши переводы» - из письма 1960 года). Умер в 1968 году.
--
Основные источники: А. Архивные: Брюсов В. – Левонтин Э. // РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 70; письма Левонтина В. Г. Короленко (РГБ. Ф. 135/II. Карт. 28. Ед. хр. 27 и РНБ. Ф. 211. Ед. хр. 1351), С. Шервинскому (РГАЛИ. Ф. 1564. Оп. 3. Ед. хр. 500), В. Н. Аксенову (РГАЛИ. Ф. 2403. Оп. 1. Ед. хр. 242), Л. П. Гроссману (РГАЛИ. Ф. 1386. Оп. 2. Ед. хр. 311), И. Н. Розанову (РГБ. Ф. 653. Карт. 38. Ед. хр. 69), Е. Никитиной (РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 129); подборки стихотворений (в т.ч. черновых; РГБ. Ф. 653. Карт. 49. Ед. хр. 7, РГАЛИ. Ф. 2403. Оп. 1. Ед. хр. 426, РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 536); автобиография: РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 277; Календарные планы работ академического сектора Всероссийского союза поэтов. Ноябрь – декабрь 1928, январь – март 1929 // ГЛМ. Ф. 383. Оп. 1. Ед. хр. 354; Б. Печатные: Тараховская Е. Затируха. Вступительная статья и публикация В. Приходько // Вопросы литературы. 1998. № 5; Кузьмин Н. Сколько стоит подвиг // Молодая гвардия. 1993. № 10; Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь. Том второй. Издание подготовлено Н. А. Богомоловым. М. 1995.
==

==
<1>
Неслышный шелест сброшенных листов,
И шорох засыпающих деревьев,
И сомкнутые в сети паутинки,
И саван сонно плещущей реки, -
Так в тридцать пятый раз встречаю осень.
Младенчество ли, отрочество ли, юность –
Всегда я зрил знакомую прозрачность,
Когда виденья Вечного Сентябрь
Мне приносил в покое и прохладе.
И в этот день, когда забвенно все,
Что называл я молодостью ране,
Сквозь вольных волн Серебряную Лебедь
Вплывающую вижу в мой простор.
Царевна, обернувшаяся в Лебедь!
Крыла твои окованы испугом,
Но некий подвиг мне свершить дано:
Пусть над тобою – реет коршун острый, -
Стрела моя певуча и крылата,
Рука моя надменна и метка.
Еще в кустах, поя их кровью черной,
Злой коршун бьется в содроганьях тяжких;
Еще удерживает в водах томность
Трепещущую, нежную – тебя, -
Но – точно по-полю – иду по водам,
Иду навстречу я Неповторимой:
Любовной болью – радостной и милой –
Серебряная ранит сердце мне.
Младенчество ли, отрочество ль, юность,
Иль зрелость, напоенная покоем,
(Вершинный час, когда равно видать
И прошлых лет веселую смятенность,
И лет грядущих медленную мудрость) –
Я всякий раз тобой благословляем,
Осенняя закатность Сентября.
Сквозь шелесты мимоидущих дней
Я чую Вечное: Серебряную Лебедь,
И подвиг мой – веселый и жестокий,
Твердь синих волн, моим стопам покорных,
И всеблагую боль.
<2>
Сегодня сквозь сумрак, на серую гать,
Где хвоя и важные цапли,
Плакучее небо пришло низвергать
Тягучие, скучные капли.
И лето—не лето, — июль — не июль,—
Пойми календарные сроки!
Я слышу: на трудную песню мою
Осенне стрекочут сороки.
За лесом овсы растрепались и ржи,
Да ржами колышется клевер.
Я буду у этой межи ворожить
Про твой нескончаемый Север.
Ведь там, где кочевья каких ты <�так> зырян,
В какой-нибудь области Коми—
Такое же небо и так же заря
Любимей 3емли и знакомей.
И также осеннею дрожью дрожит
Сосна под июльским туманом...
Я буду у этой межи ворожить
О чем либо дальнем и странном.
И точно шаман,—колдовством, ворожбой,—
В июльском измученном мраке -
Сквозь тысячи верст простирать над тобой
Я буду полночные знаки.
Сквозь тысячи верст я склонюсь над тобой,
Неистовый, гневный и острый,
Но ты, точно псу, закричишь мне: «тубо!»
И смирен я стану, что пес твой.
Ах нет, не колдун я, ах нет, не шаман,
Ах мне не под силу обманы!
Я только люблю сквозь июльский туман,
Я только бесстрашней тумана.
И если тебе не дано услыхать
Мою неизбывную небыль,—
То там пред тобою—такая же гать,
Над полем—такое же небо!
И, может быть, так же, как я у межи,
Снедаема скорбью стоокой,
Ты этою ночью пришла ворожить
О чем-то ином и далеком.
1926 г.
<3>
И в третий плеснув,
уплывает звоночек.
Бор. Пастернак
Снова
Сновали по перрону. Суета
Вокзальная дышала терпкой гарью,
Чернела пятнами очередей,
Дышала пыльным грохотом тележек.
И, точно все, обычная как все,
С цветами, чемоданами и мужем,
С нелепой сумочкой через плечо,
Ты радовалась месту у окошка,
Ты в сотый раз глядела в расписанье,
Ты в сотый раз глядела на часы,
И ничего в последних шесть минут
Сказать не захотела. Было странно:
Невымолвленными слова остались.
И за шесть лет я не успел сказать
Тебе свою немеркнущую боль,
Но шесть еще минут осталось. Все же –
Ни слов и ни движенья! Ничего!
Лишь в очередь (так много провожатых!)
Склониться над рукой неповторимой,
И отойти, чтобы потом в окне
Тебя опять, в последний раз увидеть,
В зелено-карий огнь твой погрузить
Покорное, покойное молчанье, -
Чтоб проводить положенной улыбкой,
Твой, громыхающий к Судьбе, вагон, -
А через час, за письменным столом
Листать и перелистывать тетради,
И строк не различать, и букв не видеть,
И до крови внезапно искусать
Отдавшие тебя однажды руки!
<4>
Я знаю – этой ночью серой
Увижу я – в который раз –
Непостижимость желтых глаз
Кошачьих глаз – упрямой Веры
И мысль моя еще бескровней
Еще надменней и темней –
Когда увижу – рядом с ней
Ее очередной любовник.
Я только старый Дон-Кихот –
И в никому не нужной мессе
Кровь голубая пропоет
Псалом о славной поэтессе
<5>
АЛЕКСАНДРИНА
День отшумел, и дом затих.
Она склонилась над листами,
Как драгоценность, каждый стих
В свою укладывая память.
А он – меж черни золотой,
В мундире, на придворном бале...
Ему с красавицей женой
Опять явиться приказали!
Десятки люстр уже зажгли,
Толпа снует по залам длинным...
С кавалергардом Натали
Проходит в полонезе чинном.
И сквозь сверкание огней
Он видит, стоя у колонны,
Что руку предлагает ей
Сам император благосклонно.
Как охранить, как оберечь
От царских тягостных отличий,
От светских ядовитых встреч
И дружеского злоязычья?
Как темный отвратить поток
Подметных и заемных писем?
Ведь где-нибудь следит Видок
За каждым шагом взглядом лисьим!
Что делать? Вновь к ростовщикам
Отправить жемчуга и шали?
Прижать свой лоб к его рукам?
Впивать в себя его печали?
Иль рассказать, что мил и люб,
И ощутить, хоть на мгновенье,
И ярость африканских губ,
И сердца гордого биенье!..
Июнь 1948
<6>
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ СОНЕТ
<�С. Шервинскому>
Свой скромный труд, о, Серж, на суд твой отдаю!
Не позабудь о нем средь переводов прочих.
С великой робостью усталый переводчик
Шлет Музы этот плод, как исповедь свою.
Увы! Я каменщик, а ты, конечно, зодчий,
Ты – кормчий, я – матрос. И все же я пою
И, если деньги есть, твое здоровье пью...
Ну, словом, занят я, как видишь, дни и ночи!
Я знаю, ты суров. Матроса не щадя,
Ты скажешь правду всю, корабль вперед ведя...
А вдруг... доволен ты, взыскательный художник?!
Тогда вся критика пускай меня бранит
И плюет на алтарь, где наш огонь горит
И в детской резвости колеблет наш треножник!
15 ноября 1954
<7>
CТАРОСТЬ
У входа кнопку потрогав
(Ни гнев не поможет, ни ярость),
Спокойно, как сборщик налогов,
Приходит незваная старость.
Чиновник докучный и строгий
Удобно усядется в кресло,
И все позабытые строки
Исчислит тебе по реестру.
Очки протирая платочком,
Учтиво докажет, что прав он –
И тут же с тобой за просрочку
Расправится пеней и штрафом.
Пусть в недрах горят миллионы
Тобой не добытых каратов, -
Он взыщет с тебя по закону
Твой разум, как шкаф, опечатав!
Какие предложишь ты крохи
За долг свой безрадостный – ныне?
Свои ль обветшалые строки?
Чужие ль слова и святыни?
Иль ту несказанную ярость,
Что так и не вылилась песней?!
Приди справедливая Старость!
Приди же седое возмездье.
(1 – 3: Левонтин Э. Фелука. М. 1928; 4. РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 536; 5. РГАЛИ. Ф. 1386. Оп. 2. Ед. хр. 311 (отправлено Гроссману с сопроводительной пометой: «Не посетуйте, дорогой и уважаемый Леонид Петрович, что я врываюсь своим небольшим стихотворением на большую тему в Ваш отдых.
Если я не ошибаюсь, стихов об Александрине еще не было; вероятно, я являюсь пионером, так же, как в своих стихах об Оле Калашниковой (Кстати: это последнее стихотворение мною несколько переработано по сравнению с вариантом, что я несколько лет тому назад послал Вам).
Хотя нет никаких перспектив на публикацию стихов об Оле Калашниковой и об Александрине, мысль современного поэта порою обращается к женским образам, в той или иной степени освещавшим жизнь Пушкину»); 6. РГАЛИ. Ф. 1564. Оп. 3. Ед. хр. 500; 7: РГАЛИ. Ф. 2403. Оп. 1. Ед. хр. 426).
|
|
</> |

 Превосходный видеопродакшен от Stolet Production: воплощая ваши амбиции в захватывающий видеоконтент
Превосходный видеопродакшен от Stolet Production: воплощая ваши амбиции в захватывающий видеоконтент  Прошедшим вечером я опоздала на тренировку. Забыла кеды.
Прошедшим вечером я опоздала на тренировку. Забыла кеды.  Интересные вопросы к подкасту про КСВ: 3. Мотоцикл, красный шарф и любовница
Интересные вопросы к подкасту про КСВ: 3. Мотоцикл, красный шарф и любовница  ***
*** 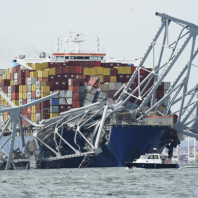 Хм, вариант
Хм, вариант  Мы Путина ни на кого не променяем!
Мы Путина ни на кого не променяем!  А хотите услышать, как крякает кошка?
А хотите услышать, как крякает кошка? 



